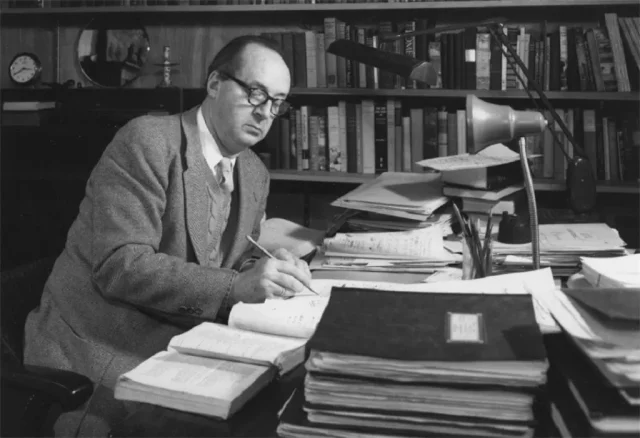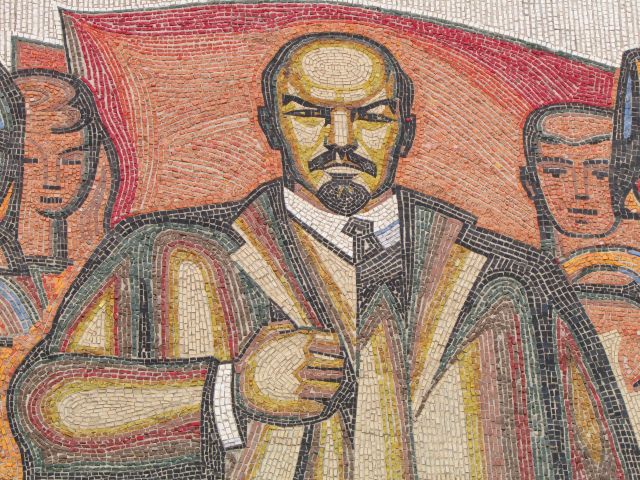«Если бы капитализм работал без сбоев, плановую экономику можно было бы не изучать». Беседа с Алексеем Сафроновым — автором книги о советской экономике
Когда у государства одни экономические приоритеты, а у людей на местах другие, получается суперцентрализованное государство, за сохранение которого готовы бороться далеко не все.
Это — беседа, которая состоялась в рамках паблик-тока на книжном фестивале «„Бражники“ — и напиться!», организованном в рюмочных издательством Individuum и университетом «Зинзивер» в апреле 2025 года. Из нее вы узнаете, как автор книги «Большая советская экономика» пришел к своей теме, что ему удалось выяснить в процессе многолетнего исследования и как изучение государственного планирования в СССР может помочь нам сегодня.
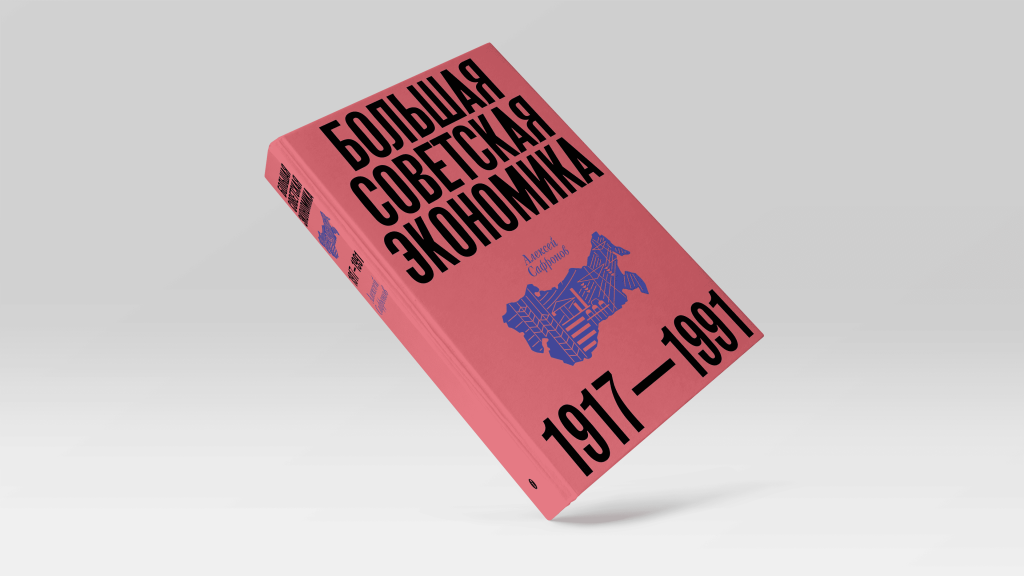
— Здравствуйте. Меня зовут Иван Аксенов. Это Алексей Сафронов — он автор книги, а я ее литературный редактор. Сразу должен сказать, что я не научный редактор и довольно мало понимаю в том, о чем, собственно, эта книга написана. Поэтому я здесь такой же заинтересованный слушатель, как и вы, несмотря на то, что внимательно работал с текстом. Я буду задавать такие вопросы, чтобы нам с вами было интересно и чтобы мы смогли лучше понять ту работу, которую Алексей проделал.
Начать, наверное, стоит вот с чего: довольно просто понять, как человек читает в детстве книжку Аркадия Гайдара, увлекается и потом со временем решает стать, например, филологом. А каким образом можно заинтересоваться советской экономикой так, чтобы начать ее изучать? Не уверен, что корни этого нужно искать в детстве, потому что вряд ли там у тебя во дворе может быть такой замечательный завод, который очень хорошо выполняет план, и ты смотришь на него и думаешь: «Присмотрюсь-ка повнимательнее, как там что, и потом буду этим заниматься». Расскажите, пожалуйста, Алексей, как так сложилось.
— Спасибо. Начать действительно можно с ранних детских впечатлений. Я 1987 года рождения, и мне уже не раз говорили, что человек моего поколения не может знать ничего о Советском Союзе. Но в памяти осталось ощущение обвала — не экономического, я тогда таких слов не знал, — а какого-то общего распада.
Взрослые казались растерянными, происходящее — странным. Помню очереди за гуманитарной помощью, как мы ездили на другой конец Москвы, заходили с черного входа в знакомый магазин и пытались приобрести продукты, хотя было невозможно почти ничего купить. Помню ядовито-розовую ветчину в жестяных банках, присланную по гуманитарной линии.
Все это воспринималось как что-то неправильное. Наверное, с этого чувства все и началось.
А потом — школа, в ней какой-то курс истории. Потом, наверное, следующая точка — это уже четвертый курс. Я тогда работал в PricewaterhouseCoopers, для студента попасть в международный консалтинг было круто. И пришел 2008 год, в конце которого мы резко остались без работы. Я должен был ходить в офис, а там никакой работы не было, то есть я приходил и отсиживал восемь часов, а потом уходил.
Через несколько месяцев нас всех уволили, но пока этого не произошло, просто от того, что мне нужно было восемь часов сидеть и чем-то заниматься, я читал все про экономический кризис, поскольку я его чувствовал, что называется, на своей шкуре. Благо, что интернет в офисе был безлимитный.
Ну и, наверное, третий пункт — это уже подготовка диссертации. Я получил экономическое образование и пошел дальше в аспирантуру, писать диссертацию про инвестиционные расходы бюджета. Мне надо было описывать методики оценки эффективности, и я понял, что они для бюджетных расходов вообще не годятся, поскольку они были списаны с частных фирм, и там буквально было сказано, что эффективность оценивается по будущим доходам. Если это объект, который будущих доходов не приносит, например, бесплатная дорога, то формально ее вообще не надо строить. Я стал искать другие методики и наиболее адекватные нашел в Ленинке, в разделе с советскими методиками оценки эффективности. И вот после этого как-то уже все сложилось.
— Хорошо, так гораздо понятнее, потому что первое ощущение у человека, который берется за эту книгу и не знаком с предметом, довольно странное. Когда открываешь книгу про экономику, то представляешь себе, что вот есть некая система, которая как-то работает, исторически меняется, и есть люди, которые живут в этой системе. А тут не сразу видно это измерение: как люди в рамках разных моделей советской экономики жили, трудились, потребляли. Наверное, стоит рассказать о вашем подходе, потому что не всякая книга об экономике устроена так. В ней описывается главным образом институциональное функционирование экономики, но почти ничего не сказано о том, как все это отражалось на повседневной жизни людей.
— Я стараюсь везде подчеркивать, что это не книга по экономике, это не экономическая книга — это книга по истории, но истории экономики.
У нас есть определенное разделение: на Западе экономической историей в основном занимаются экономисты, и у них это применение экономических моделей к историческому материалу, а у нас про экономическую историю в основном пишут историки. Можно найти книги, например, про Торгсин — известная работа Елены Осокиной — или про Микояна и советскую кухню, где есть и исторические сюжеты, и экономические, и много другого. Но когда про это пишут историки, экономики там оказывается совсем мало — она идет фоном.
Мое личное становление пришлось на пик интереса к микроистории, к истории повседневности. То и дело выходили книги о том, как жили советские люди, как боролись с дефицитом и так далее. Но дефицит в таких книгах часто подается как нечто само собой разумеющееся, что не требует объяснения, поэтому у меня была другая задача — реконструировать полностью историческую линию экономических реформ, а не какие-то отдельные сюжеты.
Я шел от того, чего мне самому не хватало в той литературе, которую читал.
Моя книга ни в коем случае не закрывает тему — это лишь попытка закрыть очевидную дыру в описании советского прошлого. У меня с самого начала было ощущение четкого общественного запроса на серьезный разговор об истории советской экономики, запроса, который почему-то не находит ответа в академии.
— Попробуйте, пожалуйста, в нескольких словах резюмировать, что самое главное удается узнать при таком подходе, когда полностью прослеживается динамика советских экономических реформ.
— Мне приходилось решать двойственную задачу. С одной стороны, нужно было просто собрать фактографию — выстроить события в хронологическом порядке, изложить, что происходило. Поэтому если бы не стояла задача пересказа фактов, то итоговое концептуальное обобщение, которое вынесено в заключение, заняло бы куда меньше места. Попробую изложить это тезисно — как будто на защите диссертации.
Первый тезис: советскую экономику можно и нужно рассматривать как единый, целостный объект. Она вполне может быть предметом изучения, в рамках которого мы пытаемся выявить внутренние закономерности ее развития как единого целого. Я здесь не первопроходец, можно сослаться хотя бы на работу Яноша Корнаи «Социалистическая система», где он поднимается на уровень выше и описывает социалистическую систему как единое целое. Но у него это больше в статике — как моментальная фотография, а я все-таки придерживаюсь принципа историзма и считаю важным показать динамику, потому что именно благодаря ей можно увидеть внутренние свойства системы.
Второй тезис — это противоречивое влияние догоняющей модернизации на советский проект в том виде, как его представляли большевики. У меня сложилось впечатление, что с одной стороны, догоняющая модернизация была необходима — ради повышения уровня жизни, обороноспособности, решения целого ряда задач. Но в условиях 1920-х годов и дальше она требовала концентрации ресурсов в едином центре. А это мешало развитию низового самоуправления, экономической демократии. Просто потому, что тренироваться было не на чем.
Если у города или района нет бюджета, если все забрано в центр под высшие задачи, то никакое местное самоуправление не возникает.
Я вижу, что эта проблема осознавалась: центральное правительство раз за разом пыталось передавать полномочия на места, но каждый раз сталкивалось с тем, что если людям дать выбор, они начинают делать не то, что заложено в государственных планах. Потому что в планах — соревнование в холодной войне, подготовка к горячей, развитие отраслей, космос, оборона. А на местах люди хотят ведомственное жилье, социальные объекты.
Это не история про злоупотребления. Это все — нормальные, понятные цели. Но каждый раз вставал выбор: либо мы даем больше полномочий на местах, либо продолжаем реализовывать общегосударственные задачи. И каждый раз полномочия начинали отбирать обратно.
Поэтому, когда я прослеживаю эти попытки дать больше экономических прав на местах, видно, как за ними следуют сбои, нестыковки — и права снова забирают. Я попытался обобщить это как циклы централизации и децентрализации.
И вот это колебание между большей централизацией и большей децентрализацией, по сути, и подталкивало постоянные реформы, в чем и заключается мой третий тезис.
Советская экономика — очень широкое понятие, она была разной в 1920-х, 1930-х, 1960-х, 1980-х годах. Все время шел поиск баланса между централизацией, которая позволяла решать большие задачи, и вовлечением людей в управление на местах.
Дело было не только в экономике, но и в политике — в том, как люди воспринимают советскую власть. Перестройка начиналась с ощущения: вот есть чиновники, а есть мы. Диссидентский проект с самого начала был построен на утверждении, что в Советском Союзе — диктатура. Если не давать на местах экономических прав, то люди рано или поздно почувствуют, что это не их государство. И когда начинается кризис, оказывается, что распад страны происходит относительно бескровно. Для многих сохранение Союза не стало тем, за что стоит бороться.
— Одна из самых необычных вещей, которую я заметил, заключается в том, как в книге проявляется ваше личное отношение к теме. Обычно у авторов, пишущих о советской экономике, это выражается в двух крайностях. Есть апологеты, которые говорят, что все было прекрасно, пока все не испортили. Есть те, кто все проклинает и считает, что об этом вообще лучше забыть. Иногда встречается и третий подход — объяснение через догоняющую модернизацию: мол, все было плохо, но иначе было нельзя, и это единственный путь, который давал стране шанс. Вашей же книге преобладает совсем другая интонация, которую я бы назвал печальной нежностью. Вы как будто смотрите на неких слабеньких зверюшек, которые куда-то идут через снежную бурю, кого-то теряют по дороге, падают, снова поднимаются, и прямо чувствуется, как вы расстроены из-за того, что им снова что-то не удалось.
— Спасибо, мне очень понравилось то, что вы сказали — про печальную нежность. Но все-таки это не про зверюшек, потому что зверюшки — это уже Николай Дроздов, который говорит: «Мы не будем им мешать, просто понаблюдаем». А здесь все-таки другое.
Это какая-то вовлеченность с открытыми глазами, и, как мне кажется, именно этого очень не хватает, не побоюсь сказать, всей современной социалистической мысли в России. Потому что вот это постоянное рубилово стенка на стенку не дает никакого продвижения. Люди приходят и уходят с одними и теми же аргументами, ничего не меняется. А мне не хотелось болельщиков, которые пришли со своим и ушли со своим. Я писал книгу, чтобы выйти за пределы этой дихотомии и прийти к какому-то более конструктивному разговору.
Я ощущаю сильную нехватку разговора о том, как мы сегодня могли бы помыслить современный социалистический проект с учетом всех проблем, которые вскрылись в XX веке.
И этот разговор должен вестись людьми, которые хотя бы готовы об этом думать. Не обязательно сразу действовать, хотя бы думать. Но при этом это должны быть не люди в боксерской стойке, которые говорят: «Ничего не было, вы мне ничего не докажете».
Мне хотелось бы, чтобы эта книга стала подспорьем — чтобы мы могли сдвинуться с этих двух позиций, которые вы очень точно обозначили: либо «не вижу никаких „за“», либо «не вижу никаких » против«». Потому что когда два шоумена спорят на публику, а зрители в зале просто выбирают, за кого болеть, — это не та ситуация, которая способна породить здоровую современную социалистическую общественную мысль. А мне бы этого хотелось.
Так что да, наверное, это и есть печальная нежность — но не к зверюшкам, а к людям, которые шли вперед и не дошли. Но знание о том, что они делали, что у них получилось, а что — нет, может нам помочь.
— Отсюда вытекает главный вопрос нашего разговора. Почему и в какой мере вы являетесь сторонником плановой экономики? Какие плюсы вы в ней видите?
— Вся социалистическая мысль базируется на критике капитализма как экономической системы, поэтому каждый раз, когда я в нашей текущей реальности вижу какие-то системные проблемы — а вижу их не только я, — мысль неизбежно обращается к альтернативам.
Эти альтернативы могут быть разными: у анархистов одна модель, у коммунистов другая, у либертарианцев третья. Но до тех пор, пока в существующей системе возникают одни и те же сбои, сама постановка вопроса об альтернативе никуда не исчезнет. Это как я и моя тень — в солнечный день она никуда не денется. В этом смысле речь идет не об отвлеченном теоретизировании, а о прямой реакции на то, что происходит вокруг.
То, что произошло в России за последние тридцать лет, удивительно точно вписывается в старую критику капитализма, сформулированную еще сто лет назад.
Все начиналось с разговоров о свободном рынке, а потом очень быстро появились монополии, которые стали использовать государство, чтобы уничтожать конкурентов. В итоге получился сплав: государство плюс крупные частные интересы, которые подминают под себя политическую систему, разрушают рыночную конкуренцию. Поэтому тексты столетней давности вдруг оказываются пугающе актуальными, а вопрос об альтернативах не может не возникать.
Я не утверждаю, что есть только один правильный ответ и я его знаю, но понимаю, что с моей книгой или без нее этот разговор все равно будет. И если я могу сделать его чуть более конструктивным — дать аргументы, фактуру, помочь с формулировками, — уже неплохо. Если бы капитализм работал без сбоев — без захватнических войн за ресурсы, без сращивания государства с монополиями, без разрушения механизмов демократии, — то, наверное, и плановую экономику можно было бы не изучать.
— Рассуждения о кризисе капитализма мы действительно слышим уже много лет, но при этом существует, например, Северная Корея, которая для многих выглядит как весомый аргумент против того, чтобы вообще вести этот разговор. В чем, по-вашему, корень аргументации тех, кто считает, что альтернатива возможна?
— Почему такая альтернатива возникает, я только что пытался объяснить, поэтому скажу теперь, к чему, на мой взгляд, стоит стремиться. Думаю, что нужно гораздо больше описаний позитивного характера — того, как мы сегодня представляем себе возможную работу социалистического проекта, в том числе в экономике. Потому что экономика меняется, появляются новые технологии, новые способы учета потребностей — и через прямые продажи, и через другие механизмы. Хотелось бы, чтобы больше людей оценивали эти перемены именно с точки зрения того, как с ними можно работать. Есть наработки, которые можно было бы использовать, если бы для этого были политические возможности.
Так что короткий ответ — больше позитивных проектов, основанных на понимании проблем прошлого и возможностях настоящего.
Как учитывать потребности, как планировать производство, как выстраивать систему вознаграждения, как совмещать масштабные цели, требующие концентрации ресурсов, с возможностями для людей на местах — чтобы можно было, условно говоря, починить детскую площадку без обращения в высокие инстанции. Таких проектов очень мало. Да, они будут частично наивными, да, их легко будет критиковать — поначалу многое не будет учитываться.
Но если говорить о том, куда двигать пространство идей, то, на мой взгляд, нужно уходить от бесконечного повторения, что капитализм — это плохо. Так же, как и в советское время противопоставление «вот у них плохо, а у нас Гагарин в космос полетел» — это ведь тоже не аргумент.
Сейчас важно задаться вопросом: хорошо, а что мы можем предложить сегодня, с учетом всего, что мы уже знаем?
Конечно, этим должен заниматься не один человек, такие идеи рождаются только в обсуждении. Вряд ли одна книга или одна презентация изменит тональность общественных дискуссий, которые сегодня идут на самых разных площадках. Но мне бы хотелось привлечь больше внимания к социальному проектированию — с опорой и на опыт прошлого, и на возможности настоящего. Потому что прежде чем появятся конкретные действия, должна появиться объединяющая мысль.
Расскажите друзьям