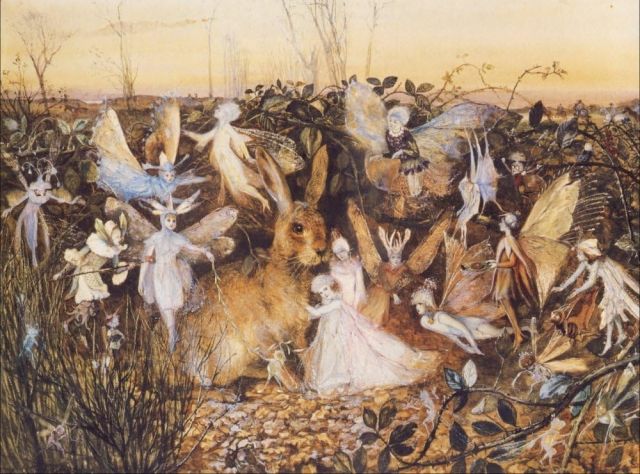Красная лопата против тревожности: зачем городу китчевые скульптуры
Если вам кажется, что в чем-то нет смысла, возможно, вы просто не умеете этот смысл считывать. Но такому легко учатся.
Несколько дней назад напротив московского Дома культуры «ГЭС-2» появилась огромная садовая лопатка. Она сменила «Большую глину № 4» Урса Фишера — массивную бронзовую скульптуру, напоминавшую первобытный ком материи. Куратор Франческо Бонами объясняет смену экспозиции эволюционным скачком: «Если „Большая глина“ была скульптурой из палеолита, данью уважения нетронутой, первородной материи, то „Садовая лопатка“ — шаг к эпохе неолита, когда люди, осев, стали планировать будущее и растить урожай. Чем обусловлен такой переход? Тем, что культура не стоит на месте».
Звучит красиво, но давайте честно: многие прохожие просто видят гигантский совок посреди города и недоумевают. Между тем, эта лопатка — работа классиков паблик-арта Класа Ольденбурга и Кузи ван Брюгген, чьи китчевые на первый взгляд скульптуры десятилетиями меняют облик городов по всему миру. И за этой нарочитой простотой скрывается целая философия того, как искусство может сделать городскую среду человечнее.

Что такое паблик-арт и при чем тут мы
Паблик-арт — это искусство в городской среде, ориентированное прежде всего на неподготовленного зрителя. Не на того, кто специально пришел в музей, купил билет и готов два часа разглядывать абстрактные полотна, пытаясь постичь замысел художника. А на обычного человека, который просто идeт по улице — на работу, в магазин, на свидание.
Главное отличие паблик-арта от обычного благоустройства в том, что благоустройство создаeт комфорт (лавочки, фонари, клумбы), а паблик-арт добавляет среде индивидуальность и эмоциональность. Это так называемое site-specific искусство: каждый арт-объект должен вписываться в ту среду, в которой находится, не просто не мешая ей, а активно меняя еe характер.
Представьте разницу: вы можете поставить в парке стандартную скамейку — это благоустройство. А можете поставить скамейку в форме гигантской красной губной помады — и это уже паблик-арт, который превращает обычное место отдыха в пространство с характером.
История этого направления началась в 1960-х годах в США, когда Национальный фонд искусств запустил программу приобщения населения к искусству. Для этого в публичных пространствах — на центральных и периферийных городских площадях — были установлены масштабные скульптуры американских художников: Александра Колдера, Класа Ольденбурга, Ричарда Серры и других. С 1967 по 1995 годы, когда действовала эта программа, в разных городах США появилось 700 скульптур и арт-объектов.
В России паблик-арт стал появляться значительно позже — в середине нулевых. С его развитием связывают выставку современной ландшафтной скульптуры «Арт-Поле Technology» 2005 года и паблик-арт программу «Спальный район» — проект на открытой территории одного из московских спальных районов, где около 70 современных художников представили арт-объекты из обыкновенных железных кроватей.
Зачем нужно искусство, которое никто не просил
Основная задача паблик-арта — преодолеть разрыв между современным искусством и обычным человеком. Дело в том, что к середине XX века язык современного искусства усложнился настолько, что большинство людей перестало его понимать. Художники ушли в абстракции, концептуализм, сложные философские высказывания — и потеряли массовую аудиторию.
Паблик-арт пытается вернуть искусство людям, говоря с ними на понятном языке. Поэтому произведения паблик-арта часто носят прямолинейный, зачастую даже китчевый характер. Гигантская ложка с вишней, огромный ластик, синяя лопата — всe это выглядит наивно, почти по-детски. Но в этом и смысл.
Задача паблик-арта — вырвать неподготовленного зрителя из состояния безучастности к окружающему и перевести в состояние творческого осмысления действительности, пробудить чувство сопричастности к миру. Для паблик-арта характерна культура соучастия, или партиципаторность — то есть вовлечение зрителя.
Художник и куратор Петер Вайбель сформулировал это так: «С помощью паблик-арта мы вряд ли сможем сделать людей умнее, но сможем сделать умнее окружающую их среду».
Как паблик-арт меняет энергетику города
На практическом уровне паблик-арт работает как своеобразный противовес токсичности мегаполиса. Большой город часто воспринимается как враждебная среда: безликие высотки, шумные магистрали, толпы незнакомых людей. Человек чувствует себя маленьким винтиком, отчуждeнным от общества и пространства.
Паблик-арт приближает городскую среду к размерам и параметрам человека, перепрограммирует эмоциональный баланс жителя мегаполиса. Он создает своего рода safe space — безопасное для жителей место. Не в смысле физической безопасности, а в смысле эмоционального комфорта.
Возьмем пример: вы идете по серой улице мимо одинаковых офисных зданий. Настроение соответствующее — серое, апатичное. Но вдруг посреди этой урбанистической пустыни вы видите десятиметровую ярко-красную вилку, торчащую из земли. Невозможно пройти мимо равнодушно.
Вы останавливаетесь, улыбаетесь (или раздражаетесь — это тоже эмоция), может быть, фотографируете. Город в эту минуту перестает быть просто функциональным пространством для движения из точки А в точку Б. Он становится местом с характером, с которым можно взаимодействовать.

При этом важен средовой контекст, в который помещается произведение. Хороший паблик-арт не просто сочетается с городским пространством, но как бы продолжает его, углубляет его индивидуальность и самоидентификацию. Скульптура в виде гигантской ложки с вишней в Миннеаполисе работает именно потому, что она установлена у Центра искусств Уокера, в парке, где растут вишнeвые деревья. Она не просто стоит где-то — она вырастает из контекста места.
Клас Ольденбург: человек, который сделал китч искусством
Клас Ольденбург и его жена Кузя ван Брюгген считаются классиками паблик-арта и одними из художников, с чьим творчеством прежде всего ассоциируется это направление. У Ольденбурга есть узнаваемая художественная стратегия: он помещает в городское пространство увеличенные копии повседневных бытовых предметов.
Как художник Ольденбург формировался на рубеже 1950-1960-х годов, и его эстетика во многом сложилась через отталкивание от элитарности и переусложнeнности искусства абстрактного экспрессионизма, который тогда доминировал в США. Большое влияние на него оказал поп-арт с его стремлением к простым высказываниям и использованием символов массовой культуры. Ольденбург стремился говорить со своим зрителем на понятном тому языке повседневности.
Его логика была проста: если люди не понимают сложное искусство, давайте покажем им то, что они точно знают — ложки, вилки, прищепки, лопатки. Только увеличенные в десятки раз и помещeнные туда, где их быть не должно. Этот приeм называется «монументализация банального» — обыденный предмет, перенесeнный в неожиданный контекст и масштаб, обретает почти мифологические смыслы.
Путь художника к признанию был непростым. Многие крупномасштабные скульптуры Ольденбурга долго вызывали насмешки и скандалы, пока их наконец не начали принимать всерьез. Например, работа 1969 года «Губная помада на гусеничных траках» была установлена в Йельском университете и довольно быстро убрана с первоначального места, после чего еe «передали в аренду другим кампусам» — деликатный способ сказать, что от неe хотели избавиться.

Английский искусствовед Эллен Х. Джонсон писала, что своей «яркой цветовой гаммой, современной формой и материалом, а также неблагородным сюжетом» скульптура «бросала вызов бесплодности и претенциозности стоящего за ней здания в стиле классицизма». Художник подчeркивал, что противопоставляет лeгкость торжественности, цвет — бесцветности, металл — камню, простоту — утончeнной традиции. По своей тематике скульптура была одновременно фаллической (мужское начало), дающей жизнь (женское начало) и похожей на бомбу, предвестник смерти.
Кузя ван Брюгген и рождение творческого дуэта
С начала 1970-х годов Ольденбург сосредоточился почти исключительно на общественных заказах. Его первая публичная работа «Three Way Plug» была создана по заказу Оберлинского колледжа при финансовой поддержке Национального фонда искусств.
В 1976 году он начал сотрудничать с голландско-американской писательницей и историком искусства Кузей ван Брюгген. Они поженились в 1977 году и продолжали работать вместе в течение 30 лет, создав более 40 публичных произведений, которые они называли «крупномасштабными проектами». С 1981 года Ольденбург официально подписывал все работы как своим именем, так и именем ван Брюгген.
Их первое совместное произведение появилось, когда Ольденбургу поручили переделать Trowel I («Мастерок I») — скульптуру 1971 года в виде огромного садового инструмента для территории Музея Крeллер-Мюллер в Оттерло, Нидерланды.
История этой скульптуры показывает, как работал Ольденбург. Изначально мастерок был серебристым, но металл быстро начал ржаветь, краска облупилась под воздействием окружающей среды. К 1975 году серебристое покрытие потускнело, и Ольденбург решил перекрасить скульптуру. Он выбрал синюю краску.

Почему именно синюю? Ольденбург явно не отличался утонченным вкусом в традиционном понимании и считал, что гигантский синий инструмент будет отлично выделяться на фоне холмистого зеленого ландшафта Нидерландов. И он оказался прав — яркий синий цвет сделал скульптуру заметной, запоминающейся, почти игрушечной. Она перестала быть просто большим предметом и стала событием в пространстве.
Ложка с вишней, которая стала символом города
Одной из наиболее известных работ Ольденбурга и ван Брюгген является скульптура «Spoonbridge and Cherry» («Ложечный мост и вишня»), созданная в 1988 году для Центра искусств Уокера в Миннеаполисе. Она стала одним из символов города — тем самым случаем, когда паблик-арт действительно меняет идентичность места.
Работа была создана на средства, пожертвованные коллекционером Фредериком Вейсманом: 500 тысяч долларов — по тем временам весьма внушительная сумма. Интересно, как рождался замысел произведения. Ранней концепцией был корабль викингов с драконом на носу, установленный в круглом зеркальном бассейне. Это должно было отсылать к скандинавским корням Миннесоты. Но от этой идеи быстро отказались — слишком прямолинейно, слишком предсказуемо.
И тогда у Ольденбурга возникла идея сделать китчевую скульптуру в виде ложки, которая, тем не менее, отсылала бы по своей геометрической форме к кораблю викингов. Куратор центра Сири Энгберг рассказывала, что для Ольденбурга и ван Брюгген чаша ложки ассоциировалась с «носом корабля викингов, поднимающимся из воды».
Скульптура состоит из двух элементов: гигантской ложки и красной вишни, балансирующей на еe кончике. Они имеют размеры 9 на 15,7 на 4,1 метра и расположены по обе стороны от небольшого пруда, построенного в форме семени липы — что напоминает о липах в окружающем парке.

Скульптура выпускает отфильтрованную воду как из верхушки, так и из основания стебля вишни. Последнее сделано для того, чтобы вишня блестела на свету. И вот здесь начинается магия: в зимние месяцы, когда пруд замерзает и покрывается снегом, скульптура может показаться бездушным макетом, причудливой идеей, которая потеряла своe очарование где-то между рукой художника и фабрикой, на которой она была построена. Но с приходом весны появляются брызги фонтана, игра отражений жидкости в бассейне на стали — и скульптура оживает, обретая живой заряд, напоминающий поэзию оригинальных эскизов художников.
Ластик для печатной машинки и философия копирования
Часто Ольденбург создавал несколько копий своих скульптур — иногда с незначительными вариациями, иногда полностью идентичные. Это само по себе интересный концептуальный жест: в эпоху, когда каждое произведение искусства считается уникальным, Ольденбург спокойно тиражирует свои работы, как будто они действительно промышленные изделия.
Показательный пример — «Ластик для печатной машинки, масштаб X». Это скульптура крупномасштабного ластика, знакомого каждому, кто застал эпоху печатных машинок. Модель, созданная в 1999 году, находится в Саду скульптур Национальной художественной галереи в Вашингтоне. Другие версии стоят в Сиэттлском центре рядом с Музеем поп-культуры и в Сити-центре Парадайз. Ещe одна выставлена в Художественном музее Нортона.

Третья из серии была продана за 2,2 млн долларов на аукционе Christie’s в Нью-Йорке в 2009 году. Это показывает парадокс паблик-арта: произведения, которые изначально создавались как демократичное, доступное всем искусство, в конечном счeте становятся дорогими объектами коллекционирования. Но в случае Ольденбурга это не противоречие — копии его работ продолжают стоять в публичных пространствах, доступные каждому прохожему.
Садовая лопата и неолитическая революция
«Садовая лопатка», которая теперь установлена напротив ГЭС-2, — типичный пример «монументализации» банального предмета у Ольденбурга и ван Брюгген. Это многократно увеличенная копия обычного садового инструмента, который каждый видел на даче у бабушки или в хозяйственном магазине.
Но, будучи перенесeнным в городское пространство и увеличенным до размеров небольшого здания, этот предмет обретает почти мифологические смыслы. Скульптура наполнена оптимизмом и привлекает внимание зрителей к роли человека и его труда в преображении реальности.
Работа отсылает к латинскому термину «cultura» (возделывание) и символизирует культивацию новых идей. Лопата — это инструмент созидания, а не разрушения. Это орудие, которым человек обрабатывает землю, растит урожай, создаeт сады. В контексте культурного центра это метафора культурного труда: мы возделываем почву для новых идей, выращиваем плоды творчества.

Куратор Франческо Бонами объясняет выбор именно этой скульптуры переходом от палеолита к неолиту — от эпохи собирательства к эпохе земледелия, от случайного существования к планированию будущего. «Большая глина» Урса Фишера была о первозданности, о материи до вмешательства человека. «Садовая лопатка» — о человеке как деятеле, о труде и надежде.
Также скульптура напоминает о том, как близки природа, человек и культура. В городской среде, особенно в таком урбанистическом пространстве, как центр Москвы, этот образ садового инструмента звучит почти ностальгически. Он возвращает нас к связи с землeй, с природными циклами, с простыми радостями работы руками.
Движение как часть смысла
Важная деталь: скульптура Ольденбурга не статична по своей сути. Лопата — это инструмент действия, движения. Когда вы смотрите на неe, вы невольно представляете, как она врезается в землю, как кто-то работает ею. Она предполагает деятельность, процесс. Это отличает многие работы Ольденбурга от классической монументальной скульптуры.
Традиционный памятник статичен, он фиксирует момент или идею. Гигантская лопата Ольденбурга застыла в движении — она как будто только что воткнулась в землю или сейчас вот-вот начнeт копать.
Эта динамика создаeт особую энергетику. Скульптура не просит вас остановиться и благоговейно созерцать еe. Она скорее говорит: «Эй, смотри, какая штука! Представляешь, если бы можно было копать такой лопатой? Что бы ты сделал?» Она провоцирует воображение, игру, взаимодействие.
Почему китч работает
Вернемся к главному вопросу: почему скульптуры Ольденбурга выглядят так китчево и почему это не проблема, а фича?
Китч в искусстве обычно воспринимается негативно — как нечто дешeвое, безвкусное, рассчитанное на неразвитый вкус. Но Ольденбург использует эстетику китча сознательно и с умом. Его скульптуры яркие, простые, понятные — они апеллируют к тому общему культурному знанию, которое есть у всех.
Когда вы видите гигантскую ложку с вишней, вам не нужно знать историю искусства, чтобы понять, что это такое. Вам не нужно читать искусствоведческие тексты, чтобы испытать эмоцию. Это работает на уровне непосредственного восприятия.
При этом китчевость создаeт особую атмосферу игры, лeгкости, отсутствия претензий. Скульптура не говорит: «Я — Великое Искусство, восхищайтесь мной». Она говорит: «Я — большая веселая штука, давайте взаимодействовать». Это снимает барьер между искусством и зрителем.
К тому же яркие цвета и простые формы отлично работают в городской среде. Город — это визуальный шум, множество элементов, конкурирующих за внимание. Утонченная, изысканная скульптура может просто потеряться в этом шуме. А десятиметровая лопата — нет.
Как паблик-арт меняет отношения человека и города
Присутствие таких объектов, как «Садовая лопатка», меняет энергетику городского пространства несколькими способами.
Во-первых, они создают точки притяжения и идентификации. «Встретимся у лопаты» — это не только практично, но и эмоционально окрашено. Место перестает быть просто координатами на карте, оно становится местом со смыслом.
Во-вторых, они снижают ощущение отчужденности. Город часто воспринимается как что-то огромное, безличное, не связанное с конкретным человеком. Паблик-арт возвращает пространству человеческий масштаб — не буквально (скульптуры Ольденбурга как раз огромные), но эмоционально. Они говорят: это пространство создано для людей, здесь можно не только функционировать, но и испытывать эмоции.
В-третьих, они предлагают альтернативу потребительскому использованию городского пространства. В современном городе почти всe пространство так или иначе коммерциализировано: магазины, кафе, реклама. Паблик-арт создаeт зоны, где можно просто быть, смотреть, думать, фотографироваться — без необходимости что-то покупать.
Критика и споры
Конечно, не все любят паблик-арт в целом и работы Ольденбурга в частности. Критики указывают на несколько проблем.
Первая — это навязывание. Когда вы идeте в музей, вы сознательно выбираете встречу с искусством. Паблик-арт вторгается в ваше пространство без спроса. Не все готовы видеть гигантскую лопату по дороге на работу. Некоторым это кажется агрессивным.
Вторая проблема — упрощение искусства.
Критики из академической среды считают, что работы Ольденбурга слишком поверхностны, что они превращают искусство в развлечение, не требующее усилий для понимания, а искусство должно быть сложным, должно заставлять думать, а не просто вызывать улыбку.
Третья — это вопрос вкуса. Многим людям эстетика Ольденбурга кажется просто безвкусной. Яркие цвета, грубые формы, откровенный китч — для воспитанных на классике это может быть неприемлемо.
Но все эти критические замечания, по сути, упускают главное: паблик-арт и не претендует на то, чтобы заменить музейное искусство или удовлетворить утончeнный вкус. У него другая задача — сделать городскую среду более человечной, живой, эмоциональной. И с этой задачей работы Ольденбурга справляются блестяще.
Что это значит для нас
Появление «Садовой лопатки» напротив ГЭС-2 — это не просто смена одной скульптуры на другую. Это сигнал о том, что Москва всe больше принимает логику современного паблик-арта, логику города, который разговаривает со своими жителями.
Для города, который долгое время ассоциировался с монументальностью, серьeзностью, историческим грузом, появление игривой лопаты — это довольно смелый шаг. Это признание того, что городская среда может и должна быть не только функциональной или исторически значимой, но и эмоционально насыщенной, дружелюбной, с чувством юмора.
В эпоху, когда лента полна тревожных сообщений, а жизнь кажется серьезной, сложной и тяжелой до непереносимости, яркие, простые, оптимистичные объекты паблик-арта выполняют важную психологическую функцию. Они напоминают, что мир не состоит только из проблем. Что можно создавать что-то просто красивое, весeлое, необычное. Что у нас есть право на игру, на лeгкость, на радость.
Садовая лопата символизирует труд, но труд созидательный, полный надежды. Вы сажаете семена сегодня, чтобы получить урожай завтра. Это метафора любой творческой работы, любого усилия по улучшению жизни. В контексте культурного центра это особенно уместно: культура — это и есть возделывание человеческого в человеке.
И, наконец, просто представьте: вы выходите из метро, идeте по набережной, видите эту огромную синюю лопату и невольно улыбаетесь. Вот оно, простое улучшение качества жизни. Не глобальное, не революционное — но реальное. Ваш день стал чуть интереснее, ваш маршрут — чуть живее, ваше восприятие города — чуть более личным.
Может быть, искусство и правда не сделает нас умнее. Но оно точно может сделать умнее — и добрее, и человечнее — окружающую нас среду. И это уже немало.
Расскажите друзьям