Великая Французская революция против свободы слова. Как Робеспьер боролся с газетчиками и драматургами
Авторов пьес сажают за аплодисменты публики, патриотичный Брут проигрывает в зрительской популярности молочнице и медведю, а против журналистов отлично помогает гильотина.
27 июля 1794 года — день, когда был низложен Максимилиан Робеспьер, один из самых харизматичных предводителей Великой Французской революции. Как мечта Робеспьера об абсолютно чистой, целиком состоящей из добродетелей революции окончилась террором, обернувшимся против него самого? Опираясь на тысячи источников, историк Колин Джонс в книге «Падение Робеспьера: 24 часа в Париже времен Великой французской революции» (только что вышла на русском языке в издательстве «Альпина нон-фикшн») воссоздает хронику «Девятого термидора» по часам и даже минутам. Публикуем главу, посвященную парижским улицам в 8 утра и отношениям Робеспьера с газетчиками и театрами.
Пока мальчишки из Марсовой школы взбудоражены грядущим праздником Бара и Виала в День лейки, по всему городу расходятся их парижские сверстники, торгующие газетами. Работники типографий, расположенных в основном на Левом берегу в секции Марата и вокруг Королевского дворца на Правом берегу, за ночь успели напечатать утренние газеты и теперь сонно бредут домой — в противоход волне продавцов, клерков, чиновников, профессионалов и т. п., торопящихся в центр города к своим рабочим местам.
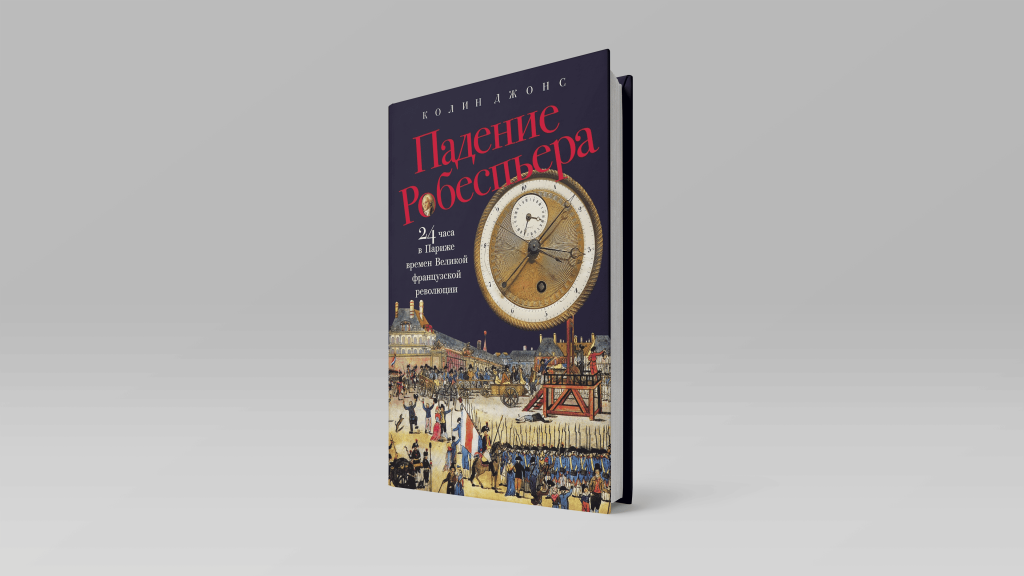
Газетчики разносят свой товар по адресам подписчиков или продают его на улице. Они на ходу выкрикивают утренние заголовки таким образом, чтобы их не заглушали характерные крики других уличных торговцев, оповещающих жителей о своем появлении: молочницы — «À la crème!», водоноса — «À l’eau! À l’eau!», метельщика — «Balais, Balais!», зеленщика — «Ma belle salade!». От тишины раннего утра уже давно ничего не осталось.
Газетчики, а их сотни, конкурируют за клиентов: в столице сегодня выпускается 51 газета.
И хотя некоторые из них относятся к специализированной прессе и не все выходят ежедневно, разнообразие и объем изданий, предлагаемых сегодня на улицах города, очень велики; это подтверждает, что свобода печати, одна из самых ценных свобод, провозглашенных Декларацией прав человека, по-прежнему существует, несмотря на скептические замечания некоторых критиков Революционного правительства.
Свобода слова, провозглашенная в 1789 году, дала французским гражданам доступ к более широкому, богатому и разнообразному текстовому, визуальному и звуковому рациону, чем когда-либо прежде.
В 1789 году в Париже выходила всего одна ежедневная газета, публиковавшая политические репортажи. Стоило разразиться революционному кризису, как их количество резко возросло: в 1789 году появились 184 новых издания, в 1790 году — 305. Типографий стало в три-четыре раза больше. Бум новых изданий и огромный рост числа читателей значительно расширили параметры демократической дискуссии. Ведь с 1789 года главные газетные новости были политическими. Кроме того, печать служит ретранслятором других форм политической коммуникации.
Речи и воззвания публикуются в виде памфлетов или перерабатываются в плакаты, которыми пестрят стены и памятники. Песни существуют и в печатном виде тоже. Революция положила начало активному развитию песенной культуры.
В 1789 году было опубликовано чуть более сотни новых песен, в 1793 году — 590, и дело идет к тому, что в 1794 году будет перебит и этот рекорд.
Динамичный ветер перемен ощутим и в театре: система жесткого государственного регулирования, существовавшая до 1789 года, ушла в прошлое, и количество театров в городе значительно увеличилось, достигнув почти 40. Кроме того, теперь на бумаге издается больше пьес, чем когда-либо прежде, а значит, авторы могут обращаться к широкой аудитории за стенами театральных залов.
С 1789 года печать продуктивно взаимодействует с другими видами общественной деятельности: политическими клубами, читальными залами, караулками и гауптвахтами Национальной гвардии, народными обществами и секционными собраниями, не говоря уже о тавернах и кофейнях, домашних семейных интерьерах, перекрестках, парках, скверах и т. п. Таким образом, число мест, где печатное слово, часто зачитываемое вслух, воспринимается и вызывает острые дискуссии, резко расширилось. Печать проникает повсюду и выступает в качестве смазки для разного рода участия в общественной жизни как дома, так и вне его.
Париж обеспечивает непропорционально большую долю национального газетного производства, здесь выше всего уровень грамотности, больше всего театральных зрителей и подписчиков газет. Примечательно, что многие журналисты, сделавшие себе имя в Париже в первые годы революции, извлекли из своей известности политическую выгоду и были избраны в Конвент, иногда от департаментов, расположенных далеко от столицы.
С 1789 года свобода печати — как и ее агенты, журналисты, — пережила несколько тяжелых ударов. После свержения Людовика XVI в августе 1792 года были закрыты роялистские и аристократические журналы. Весной и летом 1793 года закрыли прожирондистские издания, а затем и те, которые были связаны с жертвами фракционных процессов марта и апреля 1794 года.
Среди журналистов, отправившихся на эшафот за последний год, не только роялисты, но и жирондисты: Бриссо, Горса, Фоше, Карра; левые критики Революционного правительства — например, Жак-Рене Эбер; умеренные дантонисты, включая Камиля Демулена. Другие либо умерли в тюрьме (Жак Ру), либо томятся там до сих пор (Мерсье).
Гильотина и тюрьма в значительной степени препятствуют свободному выражению политических взглядов. С весны редакторы газет особенно тщательно следят за тем, чтобы придерживаться линии правительства.
На смену редакционным комментариям и мнениям все чаще приходит простое изложение фактов: главные статьи большинства газет — новости о победах на фронте, протоколы заседаний Конвента и Якобинского клуба, списки казненных по приговору Революционного трибунала, а также расписание вечерних спектаклей в театре. Что касается ключевых материалов, их публикацию редакторы часто откладывают до тех пор, пока не сверятся с Bulletin des lois («Бюллетенем законов») или другими газетами, строго придерживающимися якобинской линии.
Так, например, маргинальная газета Correspondance politique de Paris et des départements, учитывая деликатность принятого по инициативе Барера и Робеспьера Закона 7 прериаля (26 мая 1793 года), который запрещал брать британских солдат в плен, поясняла читателям, что воспроизведет закон дословно и без дополнительных комментариев, поскольку «интересны его мельчайшие детали, и поэтому малейшая ошибка в изложении несет в себе опасность». Подобного рода осторожность редакции вполне объяснима.
Зона особенной чувствительности и опасности — все, что окружает Робеспьера, известного своей крайней обидчивостью в отношении недостоверных сообщений. В первые годы революции не было более ярого сторонника свободы слова и свободной прессы.
Он превозносил роль газет (наряду со школами, народными обществами, гражданскими праздниками и военной службой) в просвещении общественного мнения и приведении народа к добродетели. В период между Учредительным собранием и Конвентом он даже сам пробовал себя в журналистике, подрядившись редактировать журнал Le Défenseur de la Constitution.
Со временем, однако, взгляды Робеспьера изменились на прямо противоположные. Открытая контрреволюция, внешняя и внутренняя война, по его мнению, оказывают на такие свободные институты слишком сильное давление; выживание государства превыше всего.
«Свобода печати, — размышлял он в Конвенте после изгнания жирондистов в середине 1793 года, — требуется лишь в спокойные времена». И действительно, в своем личном блокноте он записал: «Писателей мы должны запретить как самых опасных врагов народа».
Как раз нападки жирондистов и утвердили Робеспьера в мысли, что зачастую именно мнимые поборники революции являются ее злейшими и наиболее смертельными врагами: они намеренно распространяют клевету, вбрасывают дезинформацию, замалчивают истину и вводят народ в заблуждение.
К январю 1794 года Робеспьер предложил публично сжечь все экземпляры газеты Vieux Cordelier своего школьного товарища Камиля Демулена. Язвительная реплика Демулена в адрес Робеспьера — «Сжечь — не значит ответить» — сыграла свою роль в том, что несколько месяцев спустя Робеспьер отправил его на гильотину.
Казнь Демулена не заставила Робеспьера умерить свою ненависть к журналистам. Предположение, будто осуществленные весной казни дантонистов и эбертистов позволят политике сделаться более прозрачной и подлинной, к сожалению, оказалось ошибочным. Проблема никуда не делась.
«Как это вообще допускается, — спрашивает симпатизирующий якобинцам Journal des Hommes libres, — чтобы, даже несмотря на то, что террор теперь поставлен в порядок дня, множество ложных новостей распространялось из центра Парижа… и вносило неясность в умы патриотов и спокойствие — в души аристократов?»
На «ложные новости» жаловался и Робеспьер. Около месяца назад на дебатах он осуждал недобросовестность журналистов полуофициальной газеты Moniteur, ругая их за вопиющие передергивания. В одном из недавних выступлений он обратил внимание на появившееся в английских газетах утверждение, будто во время прогулок по Парижу его сопровождает вооруженная охрана. Он опроверг это обвинение, разведя руками и с сарказмом заявив: «Да уж, как видите, факт так факт».
Однако, как он отметил с горечью, его речь была освещена совершенно неверно: газета Moniteur необъяснимым образом не обратила внимание на предельно ясную иронию в его словах, создав у читателей впечатление, будто этот его телохранитель действительно существует. (Эта тема для Робеспьера особенно актуальна, потому что на улице его и вправду нередко сопровождает группа вооруженных людей.)
В свое оправдание Moniteur указала, что дословно привела статью из Journal de la Montagne, внутренней газеты якобинцев. Но такой ответ Робеспьера явно не удовлетворил. Он по-прежнему опасается, что преимущество Республики на поле боя саботируется ее ложными друзьями, журналистами, и тайными врагами в печатных СМИ. Журналисты становятся врагами. Тот, кто имеет представление о революции и ее врагах, должен понимать их тактику. Они придерживаются сразу нескольких, но одна из самых простых и мощных — вводить общественное мнение в заблуждение относительно принципов и людей. «Ложные новости» фабрикуются в Лондоне и распространяются агентами британского правительства из числа журналистов в Париже — которые, по сути, участвуют в коррупции. Это ключевая часть «иностранного заговора».
Робеспьер и его сторонники все более враждебно относятся к тому, как реализуется свобода печати в существующих условиях; подобный же скептицизм они проявляют и в отношении театральных свобод. С 1793 года ярые якобинцы пропагандировали идею о том, что сцена должна стать форумом для политической педагогики, которая поведет народ по пути республиканизма и добродетели.
Декрет Конвента от 2 августа 1793 года предписывал всем театрам каждые десять дней показывать одобренные государством пьесы, пропагандирующие гражданские добродетели. Также под угрозой закрытия находились театры, пропагандирующие антиреспубликанские ценности.
Владельцы театров были вынуждены ставить пьесы, одобренные КОС, а также другие патриотические пьесы, в том числе республиканские нравоучения, рассказы о героических политических journées и военных победах, демонстрировать таких знаковых персонажей, как Брут, республиканские мученики Марат и Лепелетье, и как можно резче нападать на королей, дворян, не присягнувших на верность республике церковников и других злодеев. Перед началом, после, а часто и во время спектакля зрителям следует активно участвовать в исполнении республиканских гимнов.
Наряду с увещеваниями парижских театров правительство прибегает и к мерам негативного характера. Жозеф Пайян в своем докладе, подготовленном в соавторстве с Комитетом по образованию в последние несколько недель, отметил:
«Газеты подобны театрам; они оказывают моральное воздействие. Поэтому они должны быть поставлены под определенный контроль… [Вопрос о форме такого контроля] касается самих принципов свободы и поэтому может быть решен только в контексте принципов Революционного правительства и верховенства безопасности народа».
Таким образом, плохих драматургов следует подвергнуть жестоким репрессиям как потенциальных врагов народа, вступивших в сговор с иностранными державами. Очевидно, что Жозеф солидаризируется со своим братом, доверенным лицом Робеспьера, Клод-Франсуа, национальным агентом Коммуны. Именно он в это время призывает Робеспьера взять под контроль прессу и репрессировать плохих журналистов наряду с плохими драматургами, на которых нападает его брат.
Однако утвердить политическую ортодоксию на сцене оказывается еще сложнее, чем на бумаге. Декрет 2 августа 1793 года систематически нарушается. В настоящее время лишь половину новых пьес можно отнести к «патриотическим». Сюжеты значительной части прочих — традиционные.
Самая популярная пьеса революционного десятилетия — «Два охотника и молочница» (Les deux chasseurs et la laitière) Ансома, легкая музыкальная вещь, сочиненная в 1763 году. В ней участвуют два актера, актриса и пантомим, изображающий медведя.
Театр «Амбигю-Комик» на бульваре дю Тампль дает «Двух охотников» весь текущий месяц, демонстрируя, что даже в момент проявления наивысшего республиканского энтузиазма парижане нередко предпочитают развлечения пропаганде, а смех — суровым республиканским идеалам.
С 1792 года было поставлено более 50 пьес, в названии которых фигурировало имя Арлекина, в то время как с Брутом — всего две. Арлекин в республиканском театре котируется выше Брута. Да и медведь в исполнении пантомима тоже.
Осознав проблему, в марте 1794 года правительство уволило за некомпетентность двух театральных цензоров. Но их преемники, Фаро и Ле Льевр из полицейского управления Коммуны, сталкиваются с теми же проблемами. Ведь дело не только в плохих авторах и плохих актерах, как полагает Пайян, но и в «плохих» зрителях, которые выражают свое мнение таким образом, что бросают вызов цензору.
У парижан давно известна склонность находить в пьесах скрытые политические смыслы, отражающие настроения времени. Посетив город в 1779 году, шотландский путешественник Джон Мур отметил, что
«аплодисментами, которыми они встречают отдельные фрагменты представленных в театре произведений, они передают монарху, как относится народ к мерам, принимаемым его правительством».
Эта практика продолжалась с первого дня революции и сохранилась до сих пор. Более того, иногда утверждается, что право на осмеяние закреплено в Декларации прав человека как одна из форм свободы слова.
Три примечательных случая периода правления Революционного правительства продемонстрировали его чувствительность к неуместным, по его же мнению, реакциям зрителей на воплощение идей террора.
Первая из них касалась пьесы Мари-Жозефа Шенье «Гай Гракх» (Caius Gracchus), впервые показанной в 1792 году. Позже, в 1793 году, из-за неуместной реакции зрителей на фразу «законы, а не кровь» с ней обошлись жестко. Осенью 1793 года аналогичная участь постигла «Тимолеона» (Timoléon) Шенье. Здесь поводом для недовольства правительства послужили слова «нам нужны законы и мораль, а не жертвы», реакция на которые была отмечена еще в ходе репетиций.
Также от внимания заинтересованных лиц не ускользнуло, что один из злодеев пьесы имеет возмутительное сходство с Робеспьером. Пьеса была снята с показа, а Шенье, по слухам, заставили сжечь оскорбительную рукопись в канцелярии КОБ.
Пожалуй, самый громкий случай был связан с постановкой в августе 1793 года бывшим депутатом Франсуа де Нёфшато сценической версии романа Сэмюэла Ричардсона «Памела» (Pamela). По требованию КОС театр — это был ни много ни мало старый театр «Комеди-Франсез» — вынужден был заменить героев-аристократов на простолюдинов, однако и тут возникла проблема: фраза «Ах! Лишь гонители подлежат осуждению, / А лучше всех — те, кто проявляют терпимость» была встречена громом аплодисментов. Взбешенный столь «нецивилизованной» реакцией, КОС закрыл спектакль и отправил в тюрьму драматурга и актеров, на которых была возложена ответственность за реакцию публики.
Дело «Памелы» особенно оскорбило Робеспьера, который сравнил игравших в спектакле актрис с Марией-Антуанеттой и призвал поступить с ними не менее суровым образом (видимо, гильотинировать).
В настоящее время они пребывают в тюрьме и ожидают передачи дела в Революционный трибунал. Но спектакли продолжаются — а с ними и смех, и бурные аплодисменты.
Робеспьер, судя по всему, воспринимает смех и аплодисменты в парижских театрах как упреки в адрес правительства. Иногда этот смех свидетельствует всего лишь о легкомыслии, неуместном в суровые республиканские времена. Но еще большая опасность заключается в том, что смех — знак оппозиции и критики: не просто язвительное признание неспособности республиканской педагогики покончить с незрелостью народа, но и тревожный знак — в столицу проникли враги народа и иностранные заговорщики, намеренные развратить публику.
Робеспьеровская критика газет и театров часто находит отклик у его коллег по Революционному правительству. Кутон, Колло, Барер, Амар — все они откровенно высказывались по этому вопросу. Однако сомнений нет: из всех занимающих важную позицию в самом центре правительства наиболее озабочен этой проблемой именно Робеспьер.
Бывший поборник свободной прессы, он стал ее злейшим врагом и делится своими переживаниями по этому поводу с такими своими сторонниками, как Пайян.
Его мнение о масштабе распространения «ложных новостей» связано с его верой в серьезность «иностранного заговора».
По словам коллег, он навязчиво касался этого вопроса еще до того, как перестал приходить на заседания КОС. Все его выступления посвящены «арестам, газетам и Революционному трибуналу», жалуются его коллеги. Его поведение вызывает у них все большее раздражение из-за того, что сам он, похоже, не горит желанием подставить плечо правительству, выполняющему чрезвычайно ответственную работу.
И наоборот, то, что даже после нескольких попыток подряд убедить весной-летом коллег в своей правоте он так ничего и не добился, лишь укрепляет Робеспьера в его убеждении, что враги Франции тянутся к нему, словно щупальца. В условиях, когда на карту поставлена судьба всей революции, нежелание всерьез воспринимать «иностранный заговор» и его махинации становится, по мнению Робеспьера, контрреволюционным преступлением, допустить которое может только враг народа.
Расскажите друзьям





