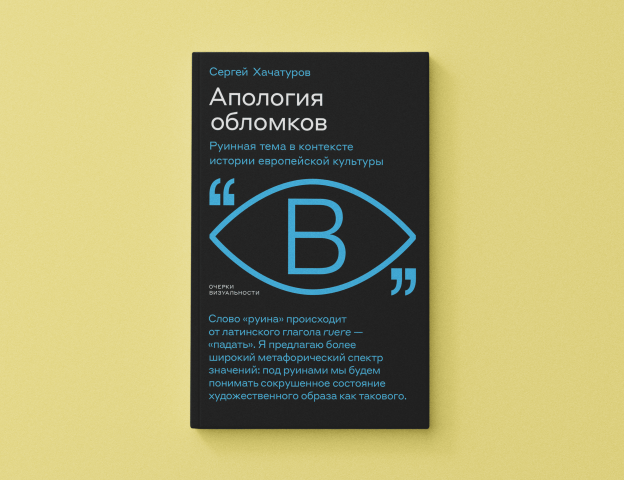Философ и болезнь. Как отслеживание телесных ощущений при диабете привело меня к своему призванию
Внутри каждого опытного диабетика сидит отстраненный наблюдатель за его эмоциями и телесными ощущениями.
Один мальчик заболел ангиной на море, и в больнице обнаружилось, что его тело почти не вырабатывает инсулин. Дальнейший телесный опыт породил в нем внутреннего наблюдателя, и эта оптика замечательно помогла в изучении философии, которая стала его любовью и призванием. О начале своего пути вспоминает философ, автор телеграм-канала παραχαράττειν τὸ νόμισμα Станислав Наранович.
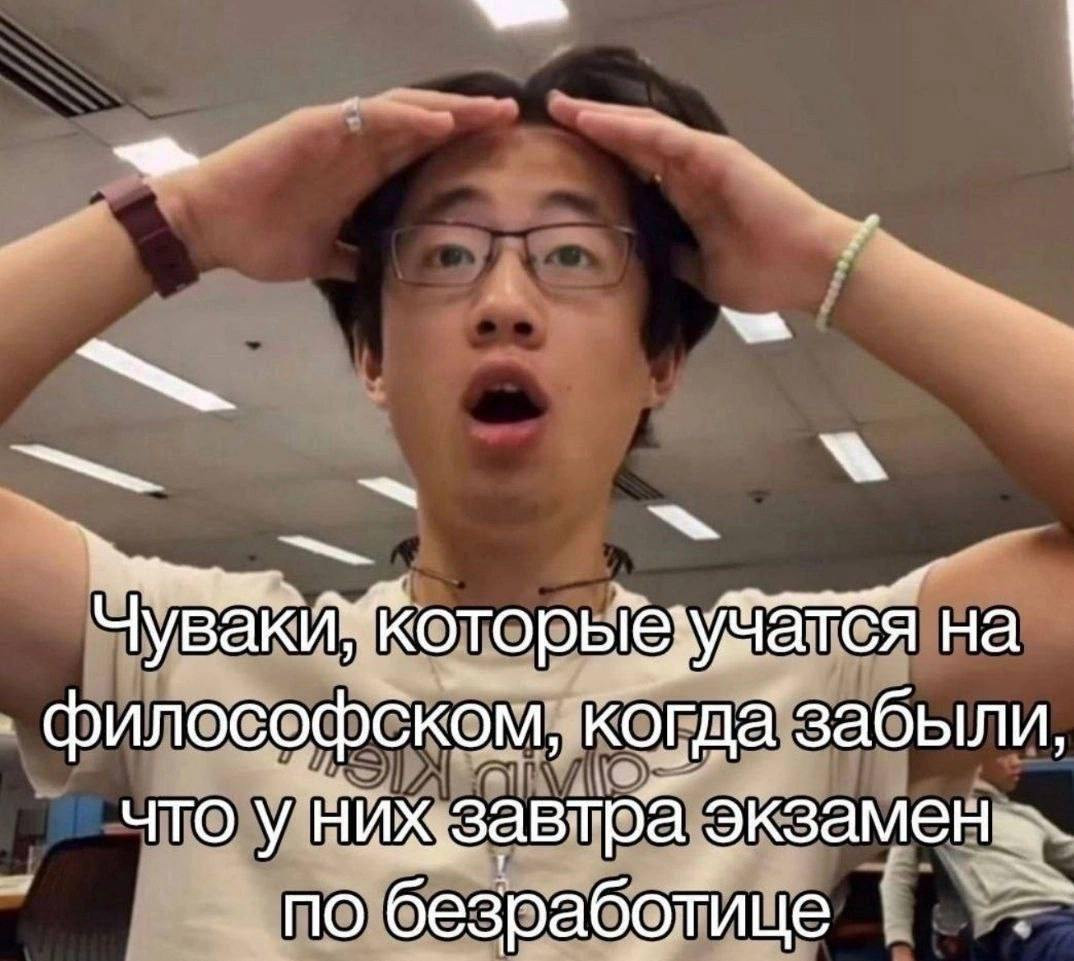
Как и вокруг любого философа, вокруг меня есть много знакомых и друзей, относящихся к моему увлечению философией пусть и с уважением, но всё же с некоторой долей недоумения. Я могу подолгу рассказывать о своих изысканиях, связанных, скажем, с античной философией, а собеседник будет с интересом слушать и расспрашивать о чем-нибудь, но очень редко это приводит к тому, чтобы мой визави в результате сам взялся бы за какую-нибудь философскую книгу, и еще реже — чтобы философия его действительно затянула.
Тут можно было бы сказать, что собеседники мои — люди тридцати-сорока, с уже сформировавшимся мировоззрением, другое дело — молодежь, только приступающая к познанию себя и мира. Мне действительно бывает приятно пообщаться с юным человеком, только-только увлекшимся философией и с воодушевлением хватающимся за любую новую тему, имя, идею, однако в подростковом возрасте распределение людей, интересующихся философией и нет, было вокруг меня примерно таким же, как сейчас, — пожалуй, даже еще более неравномерным. Значит, дело не в возрасте.
Возможно, из меня неумелый миссионер, но жизнь и история показывают, что философия никогда, даже в самые просвещенные эпохи, не пользовалась повышенным интересом большинства людей (как раз в начале XXI века это в какой-то степени изменилось, но характер этих изменений нам еще предстоит рассмотреть).
Кроме того, будем честны: человек в целом редко отдается с головой какому бы то ни было призванию, неважно, философии, науке, искусству или чему-то еще.
Большинство из нас вынуждены проводить жизнь в постоянном поиске средств к существованию (то есть в «работе», которая некоторым везунчикам, говорят, даже приносит удовольствие), параллельно находя утешение в досуге или семейной жизни. Не ждать же от людей, что после изматывающей рабочей недели, вместо того чтобы щелкнуть банкой пива и включить сериал, они усядутся с карандашом штудировать какой-нибудь философский труд? (Случаи творцов, находившихся в постоянной нужде, но тем не менее не прекращавших заниматься своим делом, пока что оставим в скобках.)
И всё же это пренебрежение философией, поскольку в моем представлении она неразрывно слита с жизнью (не просто с моей, но с жизнью вообще), меня неизменно озадачивает не меньше, чем людей, далеких от философии, — тот факт, что кто-то ею занимается, озадачивает, ставит в тупик и заставляет задаваться вопросами, на которые тяжело ответить в том числе мне самому, особенно в разговоре с нефилософом: что такое философия? зачем заниматься философией? чем занимается философия? какая от философии польза?
Когда я впервые прочел у Платона в «Федоне» и «Горгии» про то, что философия — это лучшее из человеческих занятий и его Сократ буквально влюблен в нее, я подумал: «Боже мой, как хорошо, что мы живем в мире, где кто-то написал эти слова, и не просто кто-то, а сам Платон. Значит, не всё потеряно».
Я держал в руках книгу человека, который меня полностью понимал (но не наоборот — сам я и сейчас не вполне понимаю Платона), и это было словно дружеская встреча в мире, который занят чем угодно, только не тем, чем действительно стоило бы.
Но когда пытаешься передать эту свою радость другому человеку, то сталкиваешься с большими затруднениями. Философия — лучшее из занятий? Даже предмет любви? С какой стати?
Хотя периодически выходят книги, где подобные вопросы вынесены в заглавие, и некоторые из них даже весьма достойные, мне хотелось бы попробовать обсудить их самому, чтобы ответить на них в первую очередь самому себе. В силу своего предмета эти размышления отчасти будут носить автобиографический характер, но поскольку самое личное зачастую оборачивается самым всеобщим, возможно, они будут также небезынтересны кому-то еще.
Первое, с чем мне хотелось бы разобраться, — это что вообще подталкивает, делает людей склонными к философии? В своих старых текстах я уже несколько раз рассказывал историю (сейчас бы я там многое сказал иначе) о своем друге, философе К., чей образ мысли и манера держаться покорили меня, когда мне было лет 17, и первый этап моего философского самообразования основывался на тех книгах и идеях, которые я вычитал у него в ЖЖ. Однако сейчас я понимаю, что это был повод, а не причина. Чтобы это случайное столкновение стало событием и к чему-то привело, оно должно было лечь на еще не возделанную, но удобренную почву. Что послужило этим удобрением?
Как и на все вопросы, уходящие корнями в отрочество и тем более детство, едва ли на него возможно ответить с определенностью — по крайней мере, мне подобные психоаналитические ходы чужды. И всё же никто не будет спорить с тем, что в этом возрасте действительно формируются некоторые элементы личности, которые человек пронесет потом через всю свою жизнь. Я полагаю, что мою жизнь во многом определила болезнь, проявившаяся в эти ранние годы.
«Философ и болезнь» — богатая старая тема, берущая исток еще в Античности. Однако сейчас я постараюсь указать на вполне конкретные вещи, не заходя на территорию рассуждений Ницше и Делеза на эту тему.
Когда мне было лет 12, мы с мамой отдыхали на море, где я неудачно подхватил что-то вроде ангины. По возвращении меня отвели сдать анализы, в которых обнаружился высокий уровень сахара. После этого потянулись госпитализации, врачи пытались разобраться, что со мной не так: поджелудочная железа еще выделяла инсулин, поэтому диагностировать диабет не торопились. У меня сохранились и более ранние подростковые воспоминания, однако этот больничный опыт, как кажется, я помню с большей отчетливостью. Здесь не место описывать его во всех подробностях.
Из множества процедур лучше всего мне запомнились многочисленные анализы крови: натощак, через полчаса после еды, через час, через два. Для измерения С-пептидов, отражавших метаболизм инсулина, кровь нужно было брать из вены. Чтобы не делать много уколов, вставляли «бабочку», с которой ты сидел на койке несколько часов и что-нибудь читал. В больницах я прочел всех «Трех мушкетеров» и «Одиссею капитана Блада».
Спустя некоторое время (полгода или год, не помню точно, стадия предиабета длилась довольно долго) мне всё же поставили инсулинозависимый диабет I типа — в общем-то, неудивительно, учитывая, что им болел и мой отец. С тех пор началась совсем другая жизнь. Хотя большинство диабетиков со стажем страдают от осложнений, связанных с гипергликемией, основной угрозой в повседневной жизни служит гипогликемия — пониженный уровень глюкозы в крови, вызывающий эмоциональную лабильность, слабость, спутанность и потерю сознания, судороги, кому и смерть. Это враг, который поджидает диабетика на каждом шагу, даже если у него более-менее компенсированная болезнь. Физические нагрузки, изменения привычного рациона и режима питания, неправильно подобранная доза инсулина — потенциально всё это может чересчур сильно снизить уровень глюкозы в любое время дня и ночи.
Вкололи чересчур много инсулина на ужин? Проснетесь посреди ночи от судорог. Вкололи как обычно, а углеводов съели меньше, чем рассчитали? То же самое. Вкололи инсулина не сильно больше, но чересчур долго спали? Утром будет гипа.
Не успели проверить сахар на перемене и понадеялись, что всё в порядке? Рискуете вскоре перестать понимать смысл слов и удивить однокурсников нарушением дикции. Спонтанно занялись сексом, а сахар опять подкачал? Нарушение эрекции оповестит вас об этом!
Список таких жизненных ситуаций можно долго продолжать, а также добавить сюда случаи гипергликемии, но уже из этих примеров понятно, что постоянная задача диабетика — отслеживать уровень сахара для поддержания нормогликемии. Один из главных инструментов для этого — глюкометр, однако его одного недостаточно: он дает вам представление лишь об отдельных замерах, частота этих измерений ограничена количеством тест-полосок, наконец, быстро сделать анализ бывает физически невозможно (скажем, вы ведете автомобиль и не можете мгновенно остановиться) или психологически некомфортно (вы отвечаете на вопрос учителя перед полным классом у доски). Для этого диабетиков обучают различным принципам самоконтроля, из которых я сосредоточусь на одном: самоощущении. (Системы непрерывного мониторинга глюкозы в начале 2000-х только начинали разрабатываться и были совершенно не юзерфрендли, я пробовал первые модели GlucoWatch, привезенные из Америки. Быть может, если бы уже тогда у меня был датчик для анализа глюкозы без прокалывания пальца, синхронизированный с автоматической инсулиновой помпой, то есть фактически цифровой аналог поджелудочной, моя жизнь сложилась бы несколько иначе.)
Поскольку при гипогликемии развивается энергетическое голодание мозга, часть симптомов носит субъективный характер: наступает общая слабость, настроение меняется, мысли становятся бессвязными. Часто они сочетаются с внешними физиологическими симптомами: легкой дрожью в руках, испариной на лбу. Поэтому большую роль в самоконтроле играет не только измерение, но также телесные ощущения и самоощущение в целом.
Ты должен регулярно погружаться во внутреннее восприятие и давать себе отчет о своем внутреннем состоянии. Эта интроспекция в большей степени направлена на внутреннее телесное чувство, но касается в том числе эмоциональных и когнитивных процессов.
Ты чувствуешь усталость, потому что делал что-то тяжелое и действительно устал или у тебя резко упал сахар? Не раздражают ли тебя сейчас вещи, на которые обычно ты реагируешь нормально? Ты перечитываешь третий раз текст, потому что он сложный или потому что у тебя в голове распадается смысл и связь слов? Заметить признаки надвигающейся гипогликемии можно множеством образов.
Самоощущение гипогликемии варьируется у разных людей и даже у одного человека. С возрастом оно имеет тенденцию снижаться или даже пропадать вовсе — это явление получило название hypoglycemia unawareness. Поскольку меня всегда тревожила эта проблема, я был очень рад, когда мне предложили перевести статью этнографа Эннмари Мол и социолога Джона Ло о том, чему нас могут научить представления диабетиков о телесности и их работа с внутренним чувством:
«С точки зрения этнографа, самое интересное отношение между объективностью и субъективностью — это когда измерительный прибор применяется, чтобы тренировать внутреннюю чувствительность. На тренингах людей просят сначала предположить свой уровень сахара, а затем измерить его. Задача не в том, чтобы превратить их в профессиональных отгадчиков цифр, а в том, чтобы учить их ставить дела на паузу и чувствовать свое тело изнутри. Это должно склонить их к практике самоощущения».
Я никогда не отличался высокой чувствительностью, поэтому вдобавок к ней или поверх нее у меня довольно быстро в подростковом возрасте сформировалась еще одна диспозиция — что быть начеку нужно всегда, даже когда тебе кажется, что всё в порядке.
В любой ситуации, особенно эмоционально насыщенной, когда ты рискуешь отдаться потоку переживаний целиком и утратить бдительность, необходимо, чтобы у тебя на задворках сознания находился абсолютно трезвый отстраненный наблюдатель, который будет оценивать твое состояние и в случае чего одернет тебя.
Не думаю, что это было какой-то моей личной установкой — скорее это логичное продолжение или даже основание диабетического самоконтроля в целом с его жесткой диетой, режимом, рассчитыванием дозировок и проч.
Таким образом, к тому моменту, когда я почувствовал зов философии в 17–18 лет, у меня уже был определенный опыт самоанализа и самообладания — двух важных элементов философского образа мысли и жизни. Оставалось только перевести взгляд от себя вовне и увидеть, что внешний мир во всех его аспектах точно так же подлежит анализу и объяснению — и одним из главных средств познания как нас самих, так и мира вокруг служит философия. Я быстро почувствовал исходящую от философского знания силу и красоту — оно обещает показать, как устроен наш мир, по каким законам он работает, а значит, каким-то чудесным образом невероятно возвышает человека, приобщая его к тайнам мироздания.
Когда я прочел в недавнем интервью с замечательным философом Дмитрием Владимировичем Бугаем его ответ на вопрос, что отличает людей философского склада от остальных, я сразу же подумал, что в зачаточной степени описанный рефлексивный ход был свойственен мне с отрочества:
«У Платона есть формула, которая является своего рода знаком, знамением для любого человека, хотя бы потенциально принадлежащего к философам. Это λόγον διδόναι [логон дидонай], то есть „давать себе отчет“. Обычный человек очень часто живет безотчетно, то есть в силу привычки, в силу традиции, в силу неких устоявшихся в обществе или в семье норм и правил. Философ — человек, который так или иначе обо всём пытается дать именно вот этот словесный, вербальный отчет. Он, грубо говоря, выбирает вот такую перманентную сознательность. Он выбирает быть человеком, который пытается описать всё, что происходит с ним в области психологии или в обществе, в области социальной жизни, в рациональных формулах.
Вот это, наверное, прежде всего отличает философа: желание быть сознательным, „бежать в логосы“, как это называет Платон, то есть выбирать область рассуждений, не полагаться на наивную, бессознательную, непосредственную жизненность».
Мое растянувшееся на годы увлечение стоицизмом, которое на данный момент привело меня к изучению представлений о воздержании и самообладании в античной философии, о том, что греческие философы называли ἐγκράτεια [энкратейя], тоже во многом восходит к этим первым подростковым, неудачным и еще не до конца продуманным опытам в дисциплинировании себя. Ксенофонтовский Сократ полагал, что только человек, владеющий собой, то есть подчинивший себе все свои телесные порывы, способен заниматься философией.
Как пишет историк философии Энтони Лонг по поводу этого понятия, вместе с его появлением в V–IV веках до н. э. в истории западной мысли начинает формироваться «префрейдистское представление о „я“, которое полностью прозрачно для рефлексии и над которым его владелец претендует на власть столь полную, что оказывается полностью ответственным за то, куда движется его жизнь, потакая своим эмоциям и аппетитам лишь в той мере, какую определяет он сам».
Я бы сказал, что два эти явления — самообладание и стремление дать отчет, ἐγκράτεια и λόγον διδόναι — это не просто понятия из истории философии, очень интересным образом переплетенные и концептуализированные у древних греков, но универсальные движения души, которые проявляются у людей независимо от эпохи и, при прочих благоприятных обстоятельствах, могут подвигнуть человека к философии. О том, какие формы они приобретали на протяжении истории, и о других «проклятых» философских вопросах мы поговорим в следующий раз.
Расскажите друзьям