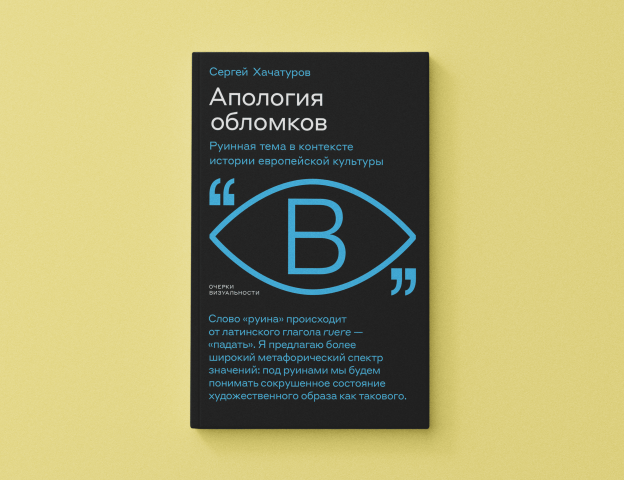Настоящий Иран. Разговор о стране журналиста Никиты Смагина и писателя Рагима Джафарова
Настоящий материал касается деятельности Смагина Никиты Анатольевича, который признан Минюстом РФ иностранным агентом. А еще он недавно написал книгу о своей жизни в Иране.
В рамках проекта «„Бражники“ — и напиться!», книжного фестиваля в рюмочных от издательства Individuum и университета «Зинзивер», встретились и поговорили двое авторов книг об Иране — разных и взаимно дополняющих опыт познания этой страны. Из беседы вы узнаете о восприятии там ислама, роли суфиев, реалиях свободы интернета и других вещах, известных только побывавшим там.
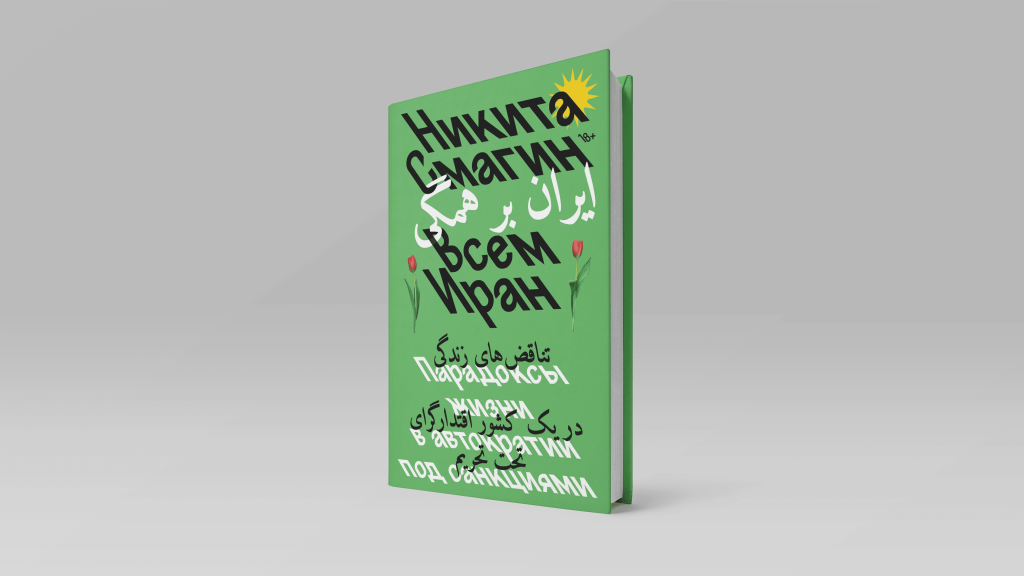
Рагим Джафаров: Это мероприятие получилось довольно спонтанно. Мы с Никитой случайно выяснили, что никак не можем пересечься в Москве, потом оказалось, что мы живем буквально в пяти километрах друг от друга в Баку. Пересеклись, что-то обсудили, потом случились определенные события, и стало понятно, что надо поговорить про Иран. У Никиты книга напрямую связана с Ираном, у меня — частично про Иран, но во многом про зороастризм, это художественное произведение. И мы решили устроить такой разговор, потому что всякий раз, когда начинали об этом говорить вдвоем, получалось очень интересно.
Мой первый вопрос. Смотри, ты пишешь нонфикшн, а я — художественную прозу. В твоей книге написано, что ты совершенно случайно оказался в Иране: выучил язык как-то, оказался там — и все пошло своим чередом. Но в художественном тексте так не бывает: читатель не поверит, что все произошло просто так.
Вот представь, что ты — герой художественного романа. Почему ты оказался в Иране? Зачем ты туда попал, и как это вообще вышло?
Никита Смагин: Ну, если вопрос зачем, то, видимо, чтобы написать книгу. Этого достаточно? Или нужен более красивый ответ?
РД: Нет, нужно что-то поинтереснее.
НС: Ну, можно что-то метафизическое придумать, чтобы очароваться, разочароваться и снова очароваться. Но, на самом деле, во многом с Ираном так и было: сначала ты им очаровываешься, тебе кажется, что это интересно. Потом приезжаешь, смотришь — тоже вроде интересно. А потом начинаешь там, например, жить — и вдруг оказывается, что местами чуть менее интересно. Просто потому что появляются ощущения, которых ты не испытывал как турист. Банальные ограничения, обыденные вещи. Не говоря уже о том, что для журналистов — ограничения особые. Но все равно ты проходишь через это и понимаешь, что так или иначе эту страну любишь.
Но если абстрагироваться от необходимости придумывать сюжет — я за то, чтобы продвигать, даже в художественном смысле, идею случайности.
Мне кажется, нас все время заставляют выдумывать нарратив в каждой ситуации, даже там, где его нет.
Но ведь удача в жизни — это и есть случайность. Случайно кого-то встретил, случайно куда-то пошел, случайно кто-то что-то предложил. Люди даже на этом пытаются зарабатывать, превращать это в капитал. У того же Талеба в «Черном лебеде» говорится: да, это случайность, но вы можете на ней зарабатывать, можете ее осознанно провоцировать. И в этом смысле, конечно, я за то, чтобы случайность была сюжетом. Если бы я писал художественный текст — я пока не писал, и не знаю, буду ли — но если бы писал, то, наверное, попытался бы создать что-то, где случайность и есть суть.
РД: И прочитал бы 10 тысяч комментариев на тему, что в жизни так не бывает.
НС: Вот как раз наоборот, мне кажется, что в жизни все куда интереснее. То есть, знаете, не так давно я с коллегой общался — он рассказывал про Великую французскую революцию и говорит: ребята, в жизни, в истории жестокости, непонятности, несправедливости на порядок больше, чем в художке. Так что в этом смысле жизнь интереснее, мне кажется, если ее правильно подать.
НС: Теперь мой вопрос. Собственно, почему Иран тебе интересен?
Что в первую очередь притягивает, что первым делом приходит на ум, когда ты говоришь, что Иран — это интересно?
РД: У меня все, наоборот, совершенно не случайно. Начнем с того, что я не Джафаров, а Джафари — что как бы уже намекает, откуда мои предки. Да, у меня дед из Ирана, и это очень странная семейная история: все знают, что дед из Ирана, но никто толком не понимает, что там происходило. Все знают, что дед был то в Иране, то в Азербайджане, а потом почему-то скончался в Астрахани. Как он там оказался — мы не понимаем. При этом, когда мы пытались выяснить его дату рождения, он говорил: когда урожай собирали. Очевидно, что урожай в Иране собирают не один раз в год, поэтому мы могли только примерно предполагать, когда это было.
Так получилось, что я с детства как-то особенно любил именно деда и очень себя с ним ассоциировал. Он был единственным в семье, кто умел читать на фарси, и я чувствовал с ним особую связь. Поэтому было вопросом времени, когда я окажусь в Иране, и так и вышло.
Вот вопрос — «так получилось» или это вовсе не случайность? Я предложил «Букмейту» написать книгу, где важную роль играет зороастризм. А если пишешь про зороастризм, то едешь туда, где он есть. Сначала я оказался вроде бы случайно по писательским делам в Индии, где есть зороастрийская община. А потом — снова как будто случайно — приехал на книжную выставку в Тегеран. И, естественно, не мог не поехать дальше, посмотреть на условную землю предков.
НС: То есть ты чувствуешь себя иранцем? Глядя на твои голубые глаза, я думаю, что ты явно не сильно иранец.
РД: Глаза у меня от бабушки, бабушка — украинка. Как иранец и украинка вообще встретились — это отдельная, странная история. А с Ираном я себя почему-то ассоциировал еще до того, как туда попал. То есть я ассоциировал себя с выдуманным Ираном. Представлял себе, что это такое место, где сидят мудрые пожилые люди — все мужчины в Иране обязательно пожилые — в тюрбанах, в мечетях. Они перебирают четки. Вот с этим образом Ирана я себя и связывал.
РД: Теперь мой вопрос. Смотри, ты пишешь про Иран изнутри. Ты прожил там сколько? Два года? Три с копейками?
Вот скажи: а увидит ли реальный Иран человек, который просто приедет его посмотреть? Я, например, как турист никогда не попаду в те ситуации, в которых ты оказывался. Потому что ты там действительно жил как иранец.
Ты ходил на работу, жил в квартире, бывал в разных районах. А для туриста это вообще реально — оказаться в том Иране, где был ты? Могу ли я попасть на тусовку с алкоголем, например? Смогу ли увидеть все то, что видел ты? Или мой Иран будет таким же выдуманным — с мужчинами в чалмах и четками?
НС: Есть базовая история, из-за которой я отвечу «нет»: для туриста, для иностранца этот Иран недоступен по причине незнания языка. И это, как мне кажется, очень важно при соприкосновении с любой культурой — особенно с такой, как иранская. Честно говоря, я и в Европе не всегда хорошо понимаю, что происходит, хотя гораздо меньше там бывал. Но, скажем, в случае арабских стран — я когда-то знал арабский, сейчас уже забыл — и Ирана знание языка открывает несопоставимо больше. Когда ты говоришь с людьми на их языке — все меняется.
Когда ты просто едешь на общественном транспорте, попутках, случайным образом общаешься с людьми — вот это самое крутое. И, конечно, это недоступно, если ты не знаешь языка. А если знаешь его хотя бы на среднем уровне — то да, откроется.
Что касается тусовки [с алкоголем] — это как раз несложно. Конечно, нужно хотя бы кого-то знать, чтобы тебя привели, но я скажу больше: иностранцу попасть на такую тусовку иногда даже проще, чем иранцу. Потому что внутри иранского общества существует недоверие — неизвестно, свой это человек или не свой, настучит кто-то или нет. Эти круги доверия очень ограничены. Я много раз с таким сталкивался: приходишь на одну тусовку, потом на другую, на третью — и вдруг понимаешь, что это все одни и те же люди, 15–20 человек. Почему? Потому что они доверяют только друг другу.
А иностранец — он вне этой системы, и как раз поэтому его можно позвать: он как будто из другого мира, он не из «тех», он снаружи. Так что с тусовками проблем особых нет. Но если говорить именно о познании Ирана — да и не только Ирана, Египта, Марокко, — то знание языка или его отсутствие меняет все.
РД: Тогда еще дальше пойдем.
Как иранцы к разным иностранцам относятся? Допустим, ты не знал бы языка и тогда был бы для них прям русский-русский. А я, допустим, для них — азербайджанец и американец. По-разному бы к нам относились?
НС: Я думаю, что американец будет чуть интереснее просто потому, что их мало, их почти не видят, но при этом все читают про США, про американскую культуру и все такое. Но в целом к иностранцам отношение базово очень хорошее, они иранцам интересны.
Есть исключения — это афганцы и арабы. Афганцы — потому что выполняют роль местных гастарбайтеров, к ним пренебрежительное отношение. Арабы — из-за определенной исторической памяти.
А к остальным — наоборот, отношение в целом очень хорошее. Потому что, еще раз, иранцу в принципе интересен иностранец: ему интересно, почему тот приехал, почему вообще интересуется его страной, его культурой. Ведь самому иранцу часто кажется, что он живет в худшей стране на свете, что он вообще в каком-то постоянном аду и все плохо. Хотя, конечно, даже при всех проблемах, мягко говоря, это не совсем так — даже сейчас, в нынешней ситуации.
НС: Моя очередь задавать вопрос.
Какой миф из иранской культуры тебя больше всего завораживает?
РД: Наверное, если зороастризм рассматривать как миф, то, конечно, он. Причем надо понимать, что зороастризм очень разный, поскольку за свои две тысячи лет с копейками он сильно менялся. Если сначала он был почти как единобожие и, по многим версиям, оказал большое влияние на монотеистические религии — например, мусульмане, считается, взяли именно оттуда идею намаза, потому что тоже молятся несколько раз в день, — то потом он становился все более сложным. Христиане заимствовали из него какие-то концепции добра и зла, выбора и прочего.
В то же время это очень странная религия. Ее долго вообще не могли понять. Про нее ходили слухи, все были уверены, что там заложена великая мудрость, а потом нашли фрагменты Авесты, священных текстов, что-то еще. Они написаны на авестийском — мертвом языке, но он отчасти похож на сохранившиеся, например, на талышский.
Начали переводить. И сначала человека, который это сделал, подняли на смех — мол, что за чушь он перевел. А там написано, например, как правильно стричь ногти, или можно ли женщине во время месячных смотреть на огонь, то есть абсолютно бытовая ерунда.
Из этого начали потихоньку восстанавливать корпус текстов, начали изучать периоды истории зороастризма — и до сих пор не могут понять: зороастризм I века до нашей эры и, скажем, XIII века — это одна и та же религия или разные? Но, честно говоря, я не знаю, почему меня это так очаровывает. Возможно, потому, что в этом до смешного удивительные художественные образы.
Например, история о том, как, по версии зороастризма, появились месячные. Там есть два начала — доброе и злое: Ахура Мазда и Ариман. Ахура Мазда — хороший, Ариман — злой. Они вечно воюют. Это совершенно марвеловская история: они создают вселенные, запирают друг друга, освобождают. Куча злобных помощников, дракон Аждаха, какие-то чудовища. Есть и демоница — страшная, злобная женщина.
И вот происходит очередной перелом в войне добра со злом. У Аримана что-то не выходит, он впадает в уныние. Но так как он бог — он не на день загрустил, как мы, а тысяч на семь лет. Никто из его приспешников не может его разбудить. Дракон приходит — не помогает. И только эта демоница как-то его пробуждает. Как именно — нигде не написано, но ей это удается. Он восстает.
Она видит, что мужик семь тысяч лет лежал, грустил на диване — ну как его не поднять? Она его поднимает, он приходит в себя, целует ее в макушку — и у нее начинаются месячные. Вот так, по версии зороастризма, они появились. Как это можно было придумать?
НС: Знаешь, что в этой ситуации показательно? Я спросил, какой иранский миф тебя больше всего впечатляет — и, оказывается, это миф про месячные.
РД: Не про месячные сами по себе, заметьте, а скорее… как бы это сказать… Зороастризм — он чудовищно художественный. Даже когда они пишут, как нужно стричь ногти и складывать их в мешочек, чтобы, не дай бог, враги до них не добрались, они это делают совершенно по-особенному. Ну, то есть, нормальные люди так инструкции не пишут. Вы читаете инструкцию — там же сказано: делай вот так и вот так. Никто же не будет украшать инструкцию из «Икеи». Там все должно быть четко, понятно.
А зороастризм — он вообще не про это. Он про то, чтобы было красиво, а разберетесь вы или нет — неважно. Поэтому я скорее рассматриваю зороастризм как миф в целом. Потому что в том состоянии, в котором он сейчас — это уже почти музейный экспонат. Он в каком-то виде сохранился, и именно поэтому я и поехал в Иран. Но по сути это уже миф, культурный артефакт, и он в Иране обретает совершенно новое значение.
Фаравахар, например, молодежь носит уже не как знак принадлежности к зороастризму, а как вызов действующей власти. Мол, мы из древней персидской культуры, а не из того, что вы нам навязываете.
РД: Слушай, расскажи мне вот что.
Я знаю про Кум — я был там проездом, видел его из окна машины, слышал всякие ужасы, что там готовят иранских эмиссаров, что это центр религиозного образования и все такое. А как там на самом деле? И второе — скажи, был ли ты в Мешхеде? Видел ли ты самых-самых религиозных из религиозных?
НС: Да, конечно, я был в Куме несколько раз, в Мешхеде — один раз, но картинка у меня довольно четкая. Мешхед — это довольно любопытное место. Во-первых, это второй по размеру город в Иране после Тегерана, если не считать Карадж, который считается пригородом. По структуре он напоминает Москву — радиально-кольцевая система, только в центре не Кремль, а мавзолей [Имама Резы]. Он постоянно разрастается, территория все время увеличивается.
И вся городская индустрия заточена под паломников. Иранцы говорят, что 40 миллионов паломников в год приезжают в Мешхед. Думаю, в основном это иранцы, а не иностранцы, но тем не менее — огромные цифры. Они называют Мешхед самым посещаемым городом в Иране с точки зрения паломничества. Можно верить или не верить их статистике — но миллионы точно. Все вокруг этого построено.
Но при этом, помимо очевидных религиозных объектов, там есть, например, аэротруба, потому что паломники, которые приезжают к святыням, зачастую хотят еще и развлечься. Есть модные рестораны, отели с бассейнами, разумеется. Выглядят они немного по-своему. Я, например, жил в отеле, где специально взял номер под названием «русский люкс». В номере все было оформлено в таком стиле, как они себе представляют Россию. Ну, знаете — зеленые шторы «а-ля Екатерина II».
РД: Кавказское барокко?
НС: Ну, да, мешхедская версия. Такая вычурность, яркость — все это там есть. Не говоря уже о том, что, конечно, в Мешхеде есть люди, которые промышляют временным браком — сиге — и всем, что с этим связано. И проституцией, соответственно, это фактически она и есть. В Куме та же самая история, это очень популярная штука.
Временный брак в Иране — это брак, который можно заключить на любое количество времени, на час, на день, на год — на сколько угодно. Это легальный способ взаимоотношений.
Большинство проституток не используют сиге в своей практике, если мы говорим, например, про Тегеран — им это не нужно. Но если брать именно религиозную составляющую, особенно в религиозных городах, то это очень распространено. Ты просто идешь к мулле, он дает документ, что у вас на час все законно — и все, потом вы расходитесь.
РД: При этом мулла ведь хорошо отдает себе отчет в том, что делает? Ты общался с духовными лицами? Я не знаю, в том же Куме, где-то еще? В большинстве своем для них это чиновничья работа или это действительно какой-то экзистенциальный путь, служение Богу, познание себя? Ты как-то говорил с ними об этом?
НС: Да, конечно, общался. И в Куме общался, и в других местах тоже — периодически пробовал. Тут все зависит от людей. Я не пытался лезть им в душу, спрашивал скорее какие-то общие вещи, но все по ситуации.
Вот в Куме была история — она, кстати, есть и в книге, — когда я встретил человека из Пакистана, он там учится и заодно продает кольца-печатки из священной глины Мешхеда, с сурами из Корана или другими надписями. Я спрашиваю его, сколько стоит такое кольцо. Он показывает огромное кольцо — оно размером… ну просто полпальца закрывает, если не больше. Огромное. Я спрашиваю, сколько стоит произвести его здесь. Он говорит: пятьдесят долларов. Даже меньше — пятнадцать. Я спрашиваю: куда ты его продаешь? Он говорит: в США, там есть шииты. Сколько стоит? Полторы тысячи долларов.
Возникает ли у него в голове вопрос — неужели он недостаточно мусульманин из-за этого? Да нет, конечно. И вообще, ислам же не противоречит заработку. Там нет этого запрета. Там не осуждается богатство, ты вполне можешь зарабатывать.
РД: По поводу наживаться на своих — есть такая русско-азербайджанская поговорка именно про то, когда на своих зарабатывают. Без мата ее можно сформулировать так: «Земляка вздрючил — как на родине побывал».
НС: Ну да. Но в данном случае он даже не земляка вздрючил, а каких-то там американцев. Хотя, конечно, шииты свои — иногда. Но неважно. В общем, я думаю, что для значительной части населения это способ жить и молиться Богу — когда тебе за это еще и платят. Это такой формат существования, при котором ты получаешь деньги за то, что занимаешься религиозными делами: читаешь Коран и прочее.
Но это не значит, что они при этом не верят. Это просто такая реальность. И я абсолютно уверен, что они будут искренне и гневно защищать исламскую республику, если что, потому что при любом другом режиме вряд ли получится, чтобы такому количеству людей просто платили за то, что они заняты религией.
НС: Так, моя очередь, да? Вопрос, который мы когда-то задавали друг другу в школе, а я задам тебе его про Иран.
Если бы ты был супергероем и должен был выбрать себе силу из иранского культурного поля — какую бы ты выбрал?
РД: Тут, наверное, нужна небольшая предыстория моей поездки по Ирану. Я прилетел в Тегеран на Тегеранскую книжную выставку. Она проходила в огромной мечети Мосалла, которая бесконечно строится.
НС: Я обычно говорю: если бы в «Безумном Максе» была мечеть — то это была бы она. Потому что она вот такая — непонятная, несуразная.
РД: В общем, это огромная мечеть, в которой проходила Тегеранская книжная выставка. Туда привезли российскую делегацию, и я, видимо, был там главным российским представителем. И сюр начался сразу. Почему мне так понравилась твоя книга? Потому что ты начинаешь с тех слов, с которых, наверное, начал бы и я: Иран — страна парадоксов. Невозможно описывать ее иначе, кроме как через парадоксы.
Первое, что я увидел на выставке — почетным гостем был Йемен. У него был очень красивый стенд, сделанный в виде замка. Йемен — тот самый, где сейчас хуситы ракеты пускают.
На этом стенде не было ни одной книги, зато были огромные плазменные экраны, на полную громкость крутящие постановочные ролики о том, как бравые йеменцы вооружаются, врываются в Газу и всех спасают. С субтитрами на иврите. В мечети. В Тегеране.
Маловероятно, конечно, что кто-то эти субтитры там прочитает. И как будто этого сюра мало — вся эта конструкция стояла так, что ее было видно практически из любой точки. И напротив в это же время проходила огромная международная сессия — в мечети, в Тегеране — про искусственный интеллект.
Я участвовал в этой сессии, сидел час и смотрел, как бравые йеменцы освобождают Газу, а параллельно говорил о перспективах развития книжной индустрии в контексте ИИ. Абсолютный сюр. Русскую делегацию сопровождал гид, которого, понятно, кто-то по ведомству приставил. Всем, наверное, ясно, по какому ведомству. Он нас водил во дворец Каджаров, например, показывал, где красиво, куда можно смотреть, куда не надо — стандартный маршрут. А потом я просто сказал ему: «Я остаюсь. Возьми мне машину, водителя, поехали со мной как переводчик, я заплачу. Хочу поехать в Кашан, Исфахан и, в конечном счете, в Йезд». Он согласился.
Я писал заметки прямо в дороге, буквально в машине — о том, что происходит в Иране. Естественно, там все заблокировано, вплоть до вотсапа. Один местный студент учил меня пользоваться иранскими VPN — потому что российские там вообще не работают, через них не выбраться.
Я продолжал писать заметки, и в какой-то момент этот гид нашел меня в телеграме, страшно возмутился тем, что я все это публикую, прибежал с круглыми глазами: «Все читают, ужасы, Рагим, удали, как же так?» В итоге дело дошло до того, что какой-то специальный человек — которого, видимо, и вызвал мой сопровождающий — отнял у меня симку.
Надо понимать, что происходило: он сам на меня стучал, сам пугал, сам же и страдал от всего этого. Это какой-то полный разрыв логики. Но при этом он не отказался ехать со мной в Йезд, искать зороастрийцев, рассказывать мне все подряд.
Он очень долго рассказывал, как хорошо жилось при шахе. Я говорю: «Это прекрасно. Но если при шахе был такой рай, то почему случилась исламская революция? Расскажи». И представляете — человек, который так или иначе работает на государство, смотрит на меня и говорит: [пропуск в записи. — Прим. ред.].
НС: Он по-русски это сказал?
РД: Да-да, конечно. И я вот стою и думаю — ну, меня это немножко смутило. Я в тот момент, видимо, поверил, что этому человеку можно доверять. Наверное, если он ругается матом про государство — значит, он настоящий. Но я очень сильно ошибался. И вот, наверное, я бы хотел такую суперспособность — абсолютную диссоциацию личности. Когда ты правой половиной себя думаешь одно, а левой — совершенно другое. И тебя это не смущает. Тут ты сказал это про власть, извините, а тут ты берешь у этой же власти деньги, и все нормально.
Я, кстати, не знаю, какая у него жизненная ситуация и никак его не осуждаю. Наоборот — это очень крутое умение, вот эта абсолютная диссоциация, когда в одной части личности живет одна позиция, а в другой — совершенно противоположная, и при этом ты нормально функционируешь.
НС: Продолжая тему деконструкции личности Рагима, мне снова нравится, что он хочет в качестве суперспособности то, от чего люди обычно лечатся.
РД: Ну вот такую я бы хотел суперспособность.
РД: Теперь мой вопрос. Смотри, мы более-менее знаем про официальный ислам в Иране: есть шииты, есть Кум, где их учат — вот это все.
А ты знаешь что-нибудь про суфийские ордена, про секты — даже по меркам шиитов? Каково их влияние?
Например, на Кавказе это как-то ощущается, а как это выглядит изнутри в Иране? Снаружи складывается впечатление, что это очень выстроенная система, а что на самом деле?
НС: Ну, опять же, я, конечно, не суперспециалист по суфизму — есть люди, которые этим серьезно занимаются. Но из того, что могу сказать: суфизм в Иране воспринимается, с одной стороны, как некоторое литературное течение. То есть вся великая иранская поэзия — Хайям, Хафиз, не говоря уже о Руми — это все суфийская литература. В этом смысле суфизм пронизывает всю иранскую культуру. Он повсюду, просто ты сначала можешь его не замечать.
Если говорить именно об орденах, то да — они, конечно, есть. Но их репрессируют, потому что это конкуренция для официальной религиозной идеологии. У тебя есть утвержденная система ислама, а суфийские ордена — параллельная структура. Пока ты в уголке читаешь стихи — нормально, но если ты начинаешь организовываться, если это уже орден как организованная сила, тогда возникает вопрос: а зачем это нужно государству? В большинстве стран, кстати, та же логика. Поэтому их будут так или иначе прижимать.
Из серьезных историй последних лет — лет пять назад, по-моему, был случай с орденом Гонабади. Его постоянно прессовали, а потом арестовали лидера, и случилась бойня прямо на улице в Тегеране. Там человек десять погибло, они пошли на полицию — с мечами, вроде бы даже с длинными ножами. Это был короткий эпизод, он быстро закончился, но все равно — довольно жесткая история. Давление на орден привело к тому, что несколько десятков человек просто вышли к полицейскому участку и начали действовать.
Так что да, ордена есть, но влияют ли они на систему? На политику? Нет. А как философия — конечно, да. Потому что суфизм действительно вшит в иранскую культуру, особенно в литературу.
РД: Слушай, а тогда скажи мне, пожалуйста — насколько все это отличается в разных местах? Ну вот смотри: ты был в Мешхеде, был в Тегеране, а в сельской местности бывал?
НС: Ну, местами, конечно, бывал, да.
РД: Ну как у нас: есть Москва, а есть Россия, и, скорее всего, есть Тегеран, а есть Иран.
НС: Пожалуй.
РД: А насколько отличается в этом плане, например, ислам?
Как верят в Тегеране и Куме — и как верят в деревне?
НС: Начнем с того, что Тегеран сам по себе очень разный. Там есть южный Тегеран — он гораздо более религиозный, и есть северный Тегеран — самый богатый и, по иранским меркам, максимально нерелигиозный. Так что даже в одном городе ты можешь за день увидеть такую разницу, что просто закачаешься. А уж если говорить про страну в целом — то разрыв еще сильнее.
В Иране вообще очень выражена региональная культура, различия от региона к региону прям очень большие. Тот же Кум, например — да, он гораздо более религиозен, чем север Тегерана. Но при этом он и гораздо более религиозен, чем Шираз, скажем, который считается одним из самых либеральных регионов. Там любят тусоваться, пить вино, устраивать вечеринки — и это вполне соответствует тому, как Шираз обычно воспринимается. Есть, например, Исфахан — он весь такой красивый, пряничный, туристический, но при этом традиционный исфаханец — человек довольно религиозный. То есть тут дело не только в том, большой это город или маленький.
Есть еще и региональная специфика, и она очень многослойная. Религия — всего лишь один из слоев. Так что да, различия есть, и серьезные. Есть, конечно, общий тренд на снижение религиозности в последние годы, но это уже скорее политическая история.
РД: Так, прости, сейчас еще накину. Смотри, на той самой книжной выставке в Тегеране, которую я упоминал, с нами был писатель из Дагестана — Ислам Ханипаев. Когда мы с ним летели в самолете, он говорил, что он суннит. А среди многих дагестанских суннитов отношение к суннитам если не как к немусульманам, то как минимум настороженное. И он перенося собственное мышление на иранских шиитов почему-то был абсолютно уверен, что его сейчас сожгут на костре прямо посреди Тегерана — потому что он «не тот». Не сожгли. Но он, видимо, опасаясь какого-то разоблачения, все время на всех выступлениях подчеркивал, что он мусульманин, что он верующий.
И я заметил интересную штуку. На выступления приходило много иранцев — видимо, им интересен какой-то движ. Особенно молодежи много было. И вот забавная сцена: выступает Ислам Ханипаев, говорит-говорит-говорит, доходит до места, где решает поделиться, что он мусульманин, что для него это важно, он в это верит… Я несколько раз смотрел на реакцию зала. И каждый раз, когда он говорил это — большая часть зала делала вот так [вздыхает, отводит глаза. — Прим. ред.]. То есть все шло нормально, пока не начиналась тема «я мусульманин, для меня это важно».
Мы едем потом в метро, поднимаемся по эскалатору. Я специально оборачиваюсь и смотрю — напротив висит портрет кого-то из… Я, к сожалению, совсем не различаю, кто из аятолл. Но он прямо напротив — ты поднимаешься, и он перед тобой. И все, кто едет, буквально механически опускают голову. Это уже на уровне рефлекса.
Насколько они на самом деле устали? Что это — усталость от пропаганды, от религии? Что происходит?
НС: Честно говоря, не знаю, как они это объяснить могут. Они, конечно, скажут, что устали от пропаганды, от религии и все такое. Но как я понимаю, дело обстоит немного по-другому.
На мой взгляд, главная проблема в том, что у них просто стабильная инфляция — официально 50%, неофициально все 100% — уже восемь лет подряд.
И это не как у нас в 1990-е, когда был пик инфляции — да, он был бешеный, но потом началось хоть какое-то восстановление. А у них — восемь лет подряд все стабильно плохо. Никакой перспективы. Девальвация валюты — то же самое. Безработица — то же самое. И главное, что никто не видит выхода, никакого горизонта, где станет лучше.
И вот ты живешь в этой ситуации, жизнь становится все хуже и хуже — и главное, ты не знаешь, когда это закончится. Поэтому, конечно, появляется простой ответ: кто виноват? Ну, ислам виноват. Почему? Потому что у нас тут мусульмане, а в других странах не мусульмане, и у них лучше. Поэтому — вот и ответ.
Расскажите друзьям