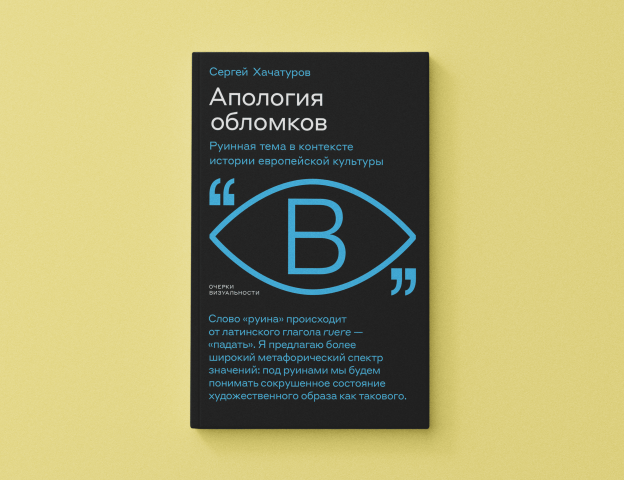Пыльная быль. Почему пыль всерьез угрожает человечеству и как от нее избавиться
Пыль — самый наглядный и поэтичный пример энтропии, безжизненности в чистом виде. Как можно противостоять этой тихой и мягкой смерти?
Как часто надо делать уборку, чтобы пыль не успевала скопиться? Говорят, чем чаще, тем лучше, но зачем? Кому мешает пыль? Она незаметна, лежит себе спокойно, мебель от нее не портится — ну, подумаешь, скапливается немного на поверхностях. Может, вообще ее не трогать? Если вам когда-нибудь приходили в голову такие мысли, вы вообще-то готовитесь сдаться без боя в схватке с коварным противником всего живого на Земле! Из книги социального антрополога Джей Оуэнс «Пыль. История современного мира в триллионе пылинок», вышедшей в издательском проекте «Лёд», вы узнаете, почему пыль — одна из самых острых тем современности, пронизывающая экологию, общество и частную жизнь каждого человека. Публикуем фрагмент из заключения. И да, это дискомфортный из-за своих фактов текст, который может заставить вас загрустить или встревожиться еще больше, если вы уже начали погружаться в это состояние. Но если вы в состоянии противостоять проблемам этого мира, читайте — кто, если не мы?
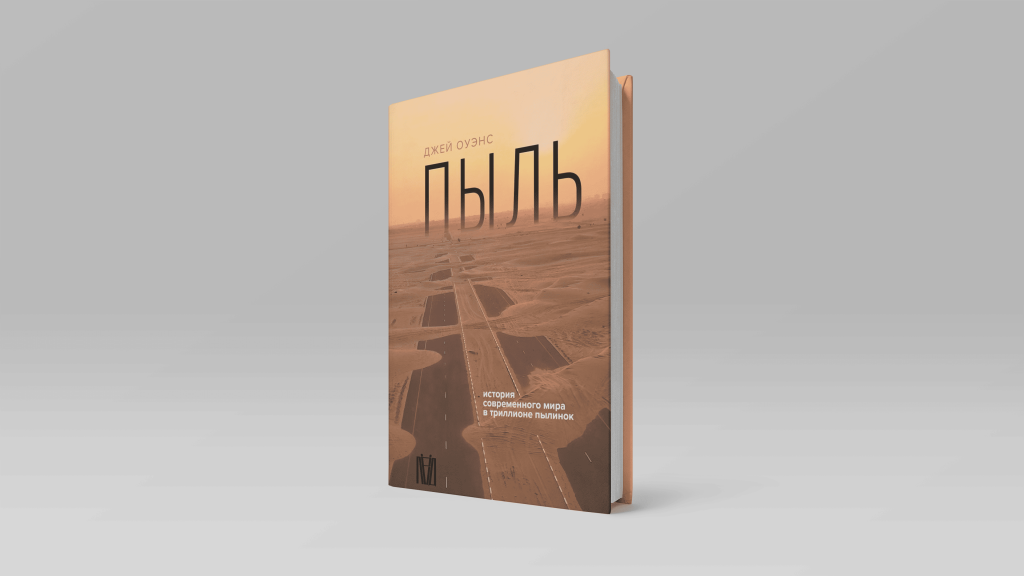
В январе 2023 года ученые из Университета Бригама Янга предупредили: возможно, Большому Соленому озеру осталось всего пять лет. Это кризис сродни высыханию озера Оуэнс, только где-то в 20 раз крупнее: в рекордные годы — 1873-й и 1987-й — площадь Большого Соленого озера (или Ti’tsa-pa — это значит «Плохая вода» на местном языке шошоне) составляла более 2,4 тыс. квадратных миль. Но с тех пор озеро потеряло 73% воды и 60% площади поверхности. Без скоординированного плана спасения и миллиарда литров воды в год оно исчезнет. Вернее, оно превратится в облако ужасной токсичной пыли.
Большое Соленое озеро, как и озеро Оуэнс, бессточное. Это значит, что в нем собираются все токсины и загрязняющие вещества с водораздела вокруг и хранятся на дне в виде ила.
От горнодобывающей промышленности в регионе достались в наследство тяжелые металлы (мышьяк, сурьма, медь, ртуть и свинец), а из сельскохозяйственных стоков поступают органические загрязнители и цианотоксины. Они лежали на дне под водой, а потом вода исчезла — и земля на дне стала высыхать.
Пока что обнаженная почва в основном все еще защищена твердой соляной коркой. Но когда ветер ее разрушит, токсичная пыль поднимется в воздух. Много пыли.
Напомню, что озеро Оуэнс десятилетиями было крупнейшим источником пыли в США. Теперь увеличьте площадь дна 20-кратно и поместите эту махину рядом с крупным городом. Вокруг озера в Солт-Лейк-Сити и более обширном регионе Уосатч-Фронт живет около 2,6 млн человек. Качество воздуха уже плохое.
В статье для Salt Lake Tribune в январе 2023 года педиатр Ханна Зальцман отмечала: «Из-за смога, дыма от лесных пожаров, высокого уровня озона и усиливающейся запыленности дети здесь часто дышат небезопасным воздухом». Солт-Лейк-Сити — 19-й среди американских мегаполисов по среднесуточному уровню загрязнения воздуха частицами PM2.5.
По оценкам, жизни 75% жителей Юты укорачиваются на год или даже больше из-за загрязнения воздуха в штате. Около 23% теряют пять лет и более. Цену полного исчезновения озера для человеческой жизни даже трудно себе представить.
«И мы не можем себе позволить ее выяснять», — писала Зальцман. В выходной она пошла на демонстрацию: люди собрались у местного капитолия, чтобы требовать от законодателей решительных действий. Они держали плакаты «Спасите наше озеро», «Нет токсичному Пыльному котлу», «Здоровье озера — здоровье наших детей». И не только детей, а всех и вся. Более миллиона человек в регионе особенно уязвимы к воздействию загрязнения воздуха.
Десять миллионов птиц 350 видов в какой-то момент своего миграционного путешествия вверх и вниз по Тихоокеанскому пролетному пути останавливаются на Большом Соленом озере. Они зависят от этого водоема, поскольку набираются там сил, питаясь озерными креветками. А креветкам, тем временем, все сложнее выживать, так как соленость в Северном рукаве выросла уже до 28%.

Писатель-натуралист Терри Темпест Уильямс рассказывала: она видела, как молодые белые пеликаны гибли на солончаках, потому что боялись койотов, которые теперь могли добраться до них благодаря мелководью. «Они не могли пролететь несколько километров до пресной воды, потому что крылья были слишком слабыми, — писала она в New York Times в марте 2023 года. — Из-за усталости они оставались на месте и гибли от голода и жажды.
Я видела на солончаках 60 птичьих трупов, инкрустированных солью. Полые кости торчали из кристаллизованных комков перьев, а крылья были расправлены, как веера на жаре».
Большое Соленое озеро высыхает не только из-за региональной мегазасухи, но и из-за потребления воды. Исследователи из Университета штата Юта подсчитали, что чистый приток воды в озеро сократился на 39% с 1850 года. Частично — из-за городских нужд (потребление на душу населения в Юте — второе по величине в США), но в основном из-за сельского хозяйства.
Газета Salt Lake Tribune сообщает, что «выращивание люцерны и других видов сена поглощает 68% из 5,1 млн акрофутов (6,2 млрд литров) воды, ежегодно отводимой в штате Юта», но взамен производит лишь 0,2% ВВП штата. Почти треть воды экспортируют в Китай. Если в главе 1 я рассказывала о «призрачных акрах», то тут своего рода «призрачная вода»: ее получателей никоим образом не касаются последствия ее добычи.
Только теперь, когда уже чуть ли не слишком поздно, Юта начала осознавать ее ценность. «У нас тут потенциальная экологическая ядерная бомба — и она взорвется, если не предпринять решительных действий»,
— в интервью New York Times в июне 2022 года предупреждал Джоэл Ферри, законодатель штата и владелец ранчо. Группы активистов, такие как «Врачи за здоровую окружающую среду», призывают город платить фермерам, выращивающим люцерну, чтобы те перестали это делать — так в Большое Соленое озеро вернется больше воды. Редколлегия газеты Tribune и вовсе призывает по максимуму прекратить ведение сельского хозяйства в штате, поскольку население растет, а засуха становится «новой нормой». «Простой факт: будущее Юты — не за сельским хозяйством», — пишут они.
Лидеры государств не хотят действовать, но их можно заставить. «Примеры со всего мира показывают, что потеря соленых озер вызывает долгосрочный цикл экологических, медицинских и экономических страданий», — говорят ученые из Университета Бригама Янга. Они ссылаются на исследования Аральского моря как на доказательство вреда, а затем на исследование по борьбе с пылью на озере Оуэнс как на образец того, что можно сделать для смягчения последствий.
Все связано. Сколько еще ужасов нужно услышать и прочитать законотворцам, чтобы понять, что катастрофу необходимо предотвратить? Вопрос открытый.
Пыльными в будущем станут многие места. В теплеющем мире значительно увеличится количество засушливых земель и усилится опустынивание. Засушливые земли — это места, где с земли и растений в атмосферу испаряется как минимум в полтора раза больше воды, чем выпадает в виде дождя.
Около 41% суши на планете относится к засушливым землям: это луга и саванны (9%), полузасушливые земли со скудной растительностью (15%), а также засушливые и гиперзасушливые земли, которые можно назвать пустыней (17%).
По мере нагревания планеты места на границах существующих климатических зон станут более засушливыми, что приведет к серьезным последствиям для людей и животных в этих регионах. Статичное земледелие невозможно на полузасушливых землях: скоту приходится перемещаться на большие расстояния в поисках воды. А на полностью засушливой земле за водой и идти-то некуда.
В 2018 году ученые подсчитали: если к 2050 году мир потеплеет на 2°C, что кажется весьма вероятным, то от 24 до 32% всей поверхности суши подвергнется засухе.

«Опустынивание» — отдельный процесс. В научной среде этот термин указывает не столько на увеличение засушливости, сколько на деградацию земли: потерю почвы, плодородия, растительности и биоразнообразия. Поля и луга превращаются в голую грязь.
Опустынивание вызывается вырубкой лесов и безответственным ведением сельского хозяйства: чрезмерная культивация и перевыпас скота разрушают корни растений и биотические корки, скрепляющие почву в засушливых регионах. А из-за неправильного орошения земля может наполниться солью и стать бесплодной. Во многих местах почву просто смывает: эрозия от вспашки в сотню раз превышает темпы естественного почвообразования.
Деградация земель несет последствия для климата. Чем меньше растений, тем больше в атмосфере углекислого газа. А при деградации углерод заодно высвобождается из почв засушливых земель — это его основное хранилище на планете. Это порочный круг: температура растет, а засушливые земли становятся еще суше.
Деградация коснулась уже 20–35% засушливых земель. Четверть миллиона людей пострадали, миллиард рискует лишиться источников дохода. Согласно прогнозам, к 2050 году урожайность сельскохозяйственных культур в некоторых регионах снизится вдвое — люди станут бедными, уязвимыми и голодными. В докладе Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам ООН за 2018 год были изложены суровые последствия: «В годы с чрезвычайно низким количеством осадков наблюдается увеличение числа насильственных конфликтов. Рост составляет до 45%».
Авторы доклада добавляют, что к 2050 году «деградация земель вкупе с проблемами изменения климата, которые тесно с ней связаны, может вынудить мигрировать от 50 до 700 млн человек».
Пустыня Гоби в Монголии и на севере Китая — второй по величине источник пыли на планете. И она растет. Ежегодно по 6 тыс. квадратных километров лугов превращаются в песок и гравий. Животные голодают. Автомобильные и железные дороги регулярно закрываются из-за песчаных бурь. Деревни пустеют. А пыль летит на юг и загрязняет Пекин.
Около 1,7 млн квадратных километров территории Китая занимают песчаные или гравийные пустыни. По данным страны, к 2006 году уже деградировали 27% ее земель (2,6 млн км2) — в 1994 было только 18%. В числе причин — изменение климата (повышение температуры, засуха и уменьшение количества снежных покровов на ледниках) и действия человека. Речь о чрезмерной заготовке дров и чрезмерной эксплуатации водных ресурсов для сельского хозяйства в связи с тем, что численность населения северных провинций Китая за последние два десятилетия увеличилась в четыре раза. Еще одна возможная причина — перевыпас скота, но это спорная версия.
Китай отреагировал на проблемы созданием одного из крупнейших в мире экологических инженерных проектов — программы Three-North Shelterbelt.
План — создание защитного пояса (Shelterbelt): высадка деревьев на линии длиной 4,5 тыс. километров через северо-запад, север и северо-восток (отсюда и «тройной север» — Three-North — в названии), чтобы остановить рост пустыни. К 2014 году посадили уже около 66 млрд деревьев. К 2050 году их должно быть 100 млрд. Они будут покрывать десятую часть территории страны. В Китае надеются, что эта «Великая зеленая стена» даст отпор «желтому дракону» пустыни Гоби.
В 2016 году экожурналист Винс Бейзер посетил уезд Долунь в китайской провинции Внутренняя Монголия. Он написал, что виды «можно охарактеризовать как глубоко вдохновляющие или очень странные». Долунь расположен на южной окраине пустыни Гоби. «Местность на многие мили вокруг представляет собой серую, сухую, песчаную пустыню, поросшую желтой травой», за исключением нескольких ярко-зеленых холмов.

А вот деревьев там не перечесть. Их тысячи. Бейзер пишет, что их высадили в форме геометрических фигур: «Был и квадрат, и полый внутри круг, и целый ряд перекрывающих друг друга треугольников. Равнина внизу была покрыта молодыми соснами одинаковой высоты. Они, прямые как линейки, стояли строем, будто рота солдат, готовых к бою». Заместитель директора местного «офиса озеленения» в Национальном управлении лесного хозяйства показал фотографии со спутника. По ним видно, как сильно изменился ландшафт всего за 15 лет. Раньше деревьев почти не было, а теперь, по правительственным данным, лесами покрыта почти треть территории уезда.
Сосны, высаженные в Долуне, прижились, но это исключение, а не правило. Программа Three-North Shelterbelt — современный мегапроект, заточенный на стандартизацию, а не на адаптацию к местным условиям. Множество тополей по рекомендации ученых высадили сеткой, чтобы стабилизировать песок, и использовали капельное орошение. Но потом ирригационные трубы забились илом, а монокультурные деревья не сумели глубоко восстановить почву и оказались уязвимыми для вредителей и болезней. В первые годы развития саженцы тополя могут пускать корни достаточно глубоко. Они забирают всю имеющуюся влагу и вытесняют другие виды. Но потом наступает тяжелый засушливый год — и деревья массово гибнут. В 2000 году в Нинся-Хуэйском автономном районе погиб сразу миллиард тополей, причем от одного патогена, поскольку все деревья были клонами ограниченного набора сортов — как следствие, уязвимости у них совпадали.
Согласно некоторым исследованиям, из миллиардов деревьев, посаженных с 1978 года, выжило только 15%.
Сохранившиеся плантации представляют собой «зеленые пустыни», лишь чуть более благоприятные для биоразнообразия, чем песок, который они заменяют. Исследователь ландшафтной архитектуры Розетта С. Элкин вообще описывает плантации тополей как «медленное насилие над социальной и биотической структурой земли».
Но они ведь остановили пыль? Не факт.
«Хотя многие китайские исследователи и правительственные чиновники заявляют, что облесение успешно борется с опустыниванием и контролирует пыльные бури, существует на удивление мало неопровержимых доказательств, подтверждающих их утверждения», — писали ученые в Journal of Arid Environments в 2010 году. Лесной покров на севере Китая увеличился, но нет уверенности в том, что это целиком заслуга проекта по посадке деревьев: более влажные годы в 2010-х способствовали естественному озеленению, а более высокие температуры стимулировали рост растений.
Но все же количество и продолжительность песчаных бурь в то десятилетие заметно сократились, и ученые выразили робкую надежду, что государственные программы по посадке деревьев хоть немного способствовали этому смягчению последствий. И правда немного: согласно одному исследованию, пыль сократилась всего на 4,6 % за счет «увеличения растительности лугов» — а оно, в свою очередь, лишь «частично приписывается экологическому восстановлению». Влияние также оказывают природные климатические факторы, а именно снижение скорости ветра и повышенная влажность почвы, подавляющая образование пыли. Впрочем, какое-то время даже НАСА было готово допустить, что «новая зелень может уменьшить воздействие пыльных бурь в регионе».
А затем, в середине марта (14–16) 2021 года, разразилась крупнейшая за десятилетие пыльная буря.
Циклон поднял пыль с рыхлой земли в Монголии и сбросил ее на Пекин. Воздух стал густым и оранжевым. Жители задыхались (но заодно публиковали мемы по «Бегущему по лезвию 2049» в соцсетях). Загрязнение мелкими частицами в городе перевалило за 7,4 тыс. мкг/м3, что в 30 раз превышает «крайне высокий» уровень. Иронично, что 15 марта в выпуске газеты The People’s Daily для Внутренней Монголии освещались региональные усилия по борьбе с опустыниванием. Заголовок гласил: «Желтые пески уходят, зеленые деревья растут».

В книге Plant Life: The Entangled Politics of Afforestation («Жизнь растений: Запутанная политика облесения»), опубликованной в 2022 году, Розетта Элкин обсуждает программу Three-North Shelterbelt наряду с двумя другими мегапроектами по посадке деревьев. Первый — Проект лесного хозяйства прерийных штатов (Prairie States Forestry Project). Его запустил президент США Рузвельт в ответ на Пыльный котел. Второй — «Великая зеленая стена» (Great Green Wall). Это план проложить 7775-километровый пояс из деревьев через всю Африку, от Сенегала на западе до Джибути на востоке, чтобы сдержать пески Сахары. Элкин относится к ним чрезвычайно критично.
Она утверждает: программы по посадке деревьев не только оказываются пустой тратой времени и денег, поскольку не приносят обещанных результатов, но еще и ухудшают ситуацию.
Они вытесняют людей с их земель, заменяют динамичные экологические сети монокультурой и разрушают ландшафты паровыми полями, воронками и заброшенными ирригационными трубами. Кроме того, Элкин считает: раз в программе Three-North Shelterbelt продолжали использовать явно неподходящие тополя, то реальные мотивы инициаторов заключаются не в борьбе с пылью, а в обеспечении готового источника древесины. Посадка деревьев — проявление солюционизма; технорешение, отвлекающее внимание и позволяющее игнорировать реальные причины деградации земель: чрезмерную добычу воды, промышленное сельское хозяйство и погоню за краткосрочной прибылью. Появляются не леса, а плантации. Как мы видели в главе 6, такие инициативы подкрепляются колониальной фантазией о том, что пустыня или даже засушливые земли — это пустые места, где ничто не имеет значения. Это ложь. Есть только один способ остановить пыль на этих деградировавших ландшафтах: защитить оставшиеся местные экосистемы.
В Сахеле, как и на севере Китая, мегапроект не сработал.
«Если бы выжили все деревья, посаженные в Сахаре с начала 1980-х годов, она была бы похожа на Амазонию, — в 2016 году сказал журналисту Джиму Моррисону Крис Рейдж, специалист по устойчивому землепользованию. — Погибло более 80% высаженных деревьев». К 2017 году было восстановлено всего 4 млн гектаров земли из запланированных 100 млн; в основном — в Эфиопии. Вряд ли удастся закончить к 2030 году, как планировалось.
Зато меняется Великая зеленая стена. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сейчас описывает ее как «флагманскую инициативу Африки по борьбе с изменением климата и опустыниванием, а также решению проблем бедности и отсутствия продовольственной безопасности». Там подчеркивают, что «Великую зеленую стену нужно рассматривать не как стену из деревьев, сдерживающую пустыню», а как «мозаику методов устойчивого землепользования».
То есть это лоскутное одеяло из решений, а не один большой всеобъемлющий генеральный план.
Пока саженцы массово погибали, другие деревья пускали зеленые побеги. Согласно французским колониальным законам (которые оставались в силе и после обретения независимости), деревья — собственность государства. Следовательно, владеть ими было довольно опасно: нарубишь на дрова — рискуешь сесть в тюрьму. Но потом законы наконец переписали, и с 1980-х годов фермеры стали больше ухаживать за деревьями. Те служили источником полезного топлива и кормом для животных, а также удерживали хрупкий верхний слой почвы, предотвращая ветровую эрозию.
Годами в мире почти не замечали, что происходит. «Никто не зафиксировал это озеленение, потому что спутниковые снимки не были достаточно детальными, — сказал Джиму Моррисону Грей Таппан, географ из проекта „Тенденции землепользования и растительного покрова в Западной Африке“ Геологической службы США. — Мы смотрели на общие тенденции землепользования, а конкретно деревья не видели».
Нигер действительно позеленел. В Буркина-Фасо фермеры тоже увидели кардинальные перемены. Они использовали посадочные ямы zai для концентрации питательных веществ и каменные барьеры для удержания сточной воды с полей.

Благодаря этому твердая почва стала впитывать больше дождевой воды. Урожайность зерновых увеличилась на 40% или даже удвоилась, а количество деревьев на гектар на восстановленных полях выросло на 22%. «Это удвоение урожайности связано с деревьями», — сказал в интервью экоинформационному порталу Mongabay ученый Патрис Савадого из Всемирного центра агролесоводства.
Сработало не что-то одно, а экологическая синергия: деревья добавляют биомассу в почву и накапливают почвенный углерод (как это делает навоз), создавая благоприятный микроклимат для таких культур, как просо. Савадога добавляет: «[Фермеры] восстанавливают деревья, даже скармливая семена скоту. Некоторые из них прорастают лучше, если проходят через пищеварительную систему животного». Впрочем, фермеры в основном не сажали новые деревья, а восстанавливали их из пней: да, многие деревья погибли в 1970-е годы из-за засухи или чрезмерной заготовки дров, но их корни-то остались под землей. Здесь, как и в долине Оуэнс, земля готова снова озелениться, если люди просто дадут ей шанс.
Но вот что важно: естественное восстановление, которым управляют фермеры, должно оставаться уделом фермеров.
Розетта Элкин приводит примеры неудачного использования ям zai, когда их рассматривали как «климатически разумную» технологию, которую можно использовать в промышленном лесном хозяйстве и внедрить в более крупных масштабах. Вот только без заботы фермеров и навоза их животных растения приживаются с трудом. Истории успеха меньше и проще: например, старик, которому уже за 70, всю жизнь копал ямы, перемещал камни и сажал саженцы — и в итоге превратил пустыню в оазис площадью 40 гектаров с колючей акацией и желтоплодными деревьями саба.
Эта полная противоположность высокотехнологичному экологическому мегапроекту тоже может сработать. Именно поэтому развивается проект Великой зеленой стены. Мохамед Бакарр из Глобального экологического фонда, финансирующего биоразнообразие, отмечает: «Это не реальная стена, а скорее мозаика методов землепользования, которая в конечном итоге оправдает ожидания от стены. Она превратилась в метафору».
Расскажите друзьям