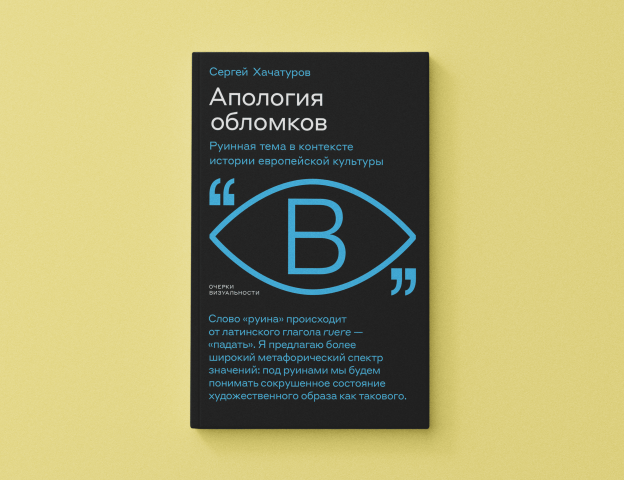Советский Жюль Верн. Как жил и писал Григорий Адамов — боевик-революционер, журналист и классик дизельпанка
Один из секретов эмоциональной яркости и живучести качественной литературы XIX–XX веков — в том, что многие писатели не проводили всё время за столом, а жили очень много жизней в разных ипостасях.
Когда-то он был одним из самых популярных в СССР писателей-фантастов. Хотя Григорий Адамов успел написать всего три романа, все они стали бестселлерами, благополучно противостоят времени и переиздаются до сих пор. Секрет книг Адамова заключается в том, что он, будучи уже немолодым по меркам своей эпохи человеком, сумел уловить чисто подростковую тягу к романтике приключений и блестяще воплотил ее в своих романах. При этом Григорий Борисович не успел оставить воспоминаний о своей жизни, сведения приходится собирать по крупицам, и биография остается малоисследованной. И это досадно — ведь жизнь Адамова, особенно ее первая половина, сама напоминает приключенческий роман.

Агитатор-пропагандист
Человек, которого мы сейчас знаем как писателя Григория Адамова, родился 6 мая (18 мая по новому стилю) 1886 года. В его свидетельстве о рождении было записано: «Абрам-Герш Борухович Гибс». Появился он на свет в Херсоне, в бедной многодетной семье еврея-рабочего, трудившегося на деревообрабатывающей фабрике, — Абрам-Герш был седьмым ребенком. Херсонская губерния входила в черту оседлости и принадлежала, соответственно, к тем административно-территориальным единицам Российской империи, где еврейское население могло проживать невозбранно. Его этническое происхождение, а также специфическое положение еврейства в империи во многом и предопределили необычные обстоятельства начального этапа жизни будущего писателя.
О детстве и юности Адамова нам известно довольно мало. Отец, стремясь обеспечить сыну достойное образование, сумел скопить денег на гимназию. Однако плату нужно было вносить регулярно, и в какой-то момент деньги в семье иссякли. Родители не смогли вовремя внести очередной взнос — и одаренного подростка исключили из предпоследнего класса гимназии. Чтобы заработать на жизнь, ему пришлось заняться репетиторством в богатых домах — он преподавал детишкам состоятельных родителей грамматику и арифметику. А уже в пятнадцать лет его неудержимо потянуло к революционерам.
То, что юноша сделал именно такой выбор, удивления не вызывает. Во-первых, должна была заговорить его индивидуальная обида на систему, оттеснившую его на обочину жизни. Во-вторых, сказалось этническое происхождение. Еврейство в конце XIX и начале XX века переживало пассионарный взрыв.
На тот момент основная масса мирового еврейства проживала именно в западных частях Российской империи — они достались ей после трех разделов Речи Посполитой в XVIII веке. Евреи были серьезно ограничены в правах: им нельзя было свободного перемещаться — даже в пределах черты оседлости! — и приходилось мириться с невозможностью поступить на государственную службу и с большими трудностями в получении образования.
Плюс ко всему как раз в конце XIX века в государстве усилилась антисемитская пропаганда, которая вылилась в серию погромов, произошедших в районах компактного расселения евреев.
Наиболее дальновидные деятели империи, такие как Сергей Витте, выступали против государственного антисемитизма, справедливо указывая, что подобная политика способствует «крайнему революционизированию еврейских масс и в особенности молодежи». Однако по факту ничего не менялось — и у молодых энергичных евреев, которые не желали жить как их родители — под прессом угнетения, оставалось лишь два выхода.
Один из них — миграция: в ту пору евреи уезжали из России в огромных количествах. Впоследствии энергия этих эмигрантов очень поспособствовала развитию США, где множество талантливых беженцев сумели успешно реализовать себя в самых разных сферах: в искусствах, науке, бизнесе и административной системе. Другие эмигранты восприняли призывы отцов сионизма и устремились в Землю Обетованную, вдохновленные мечтой о создании еврейского государства.
Однако многие представители еврейской молодежи выбрали иной путь: остаться в России и бороться за свои права на родине. В частности, подобный выбор сделал и пятнадцатилетний Абрам-Герш Борухович Гибс. Много позже его сын Аркадий Адамов сообщал, что революционную карьеру Абрам-Герш начал с посещения херсонского кружка Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).
Позже, когда российские соцдемы раскололись, Гибс примкнул к наиболее радикальной фракции большевиков. Он хранил у себя дома нелегальную аппаратуру, выполнял поручения партийного комитета, занимался агитацией в рабочих кружках. Юношу увлекала революционная романтика, прекрасно описанная Валентином Катаевым в повести «Белеет парус одинокий».
В 1905 году Российскую империю охватило революционное брожение — и 19-летний Абрам-Герш оказался в полной мере в него вовлечен. В 1926 году в журнале украинской Компартии «Летопись революции» были опубликованы мемуары некого В. Липшица, в 1905-м руководившего организацией большевиков в Херсоне. Он вспоминает и Гибса: «Другой штаб-квартирой в Херсоне была квартира сестер Виленских, чулочниц, где иногда собиралась наша революционная братия и где происходили заседания Херсонского Комитета. В Комитет входили, кроме меня, т. Гриша, Гибс и, если не ошибаюсь, Эренбург и Перелыптейн».
Первоначально комитет занимался только пропагандой, порой собирая на городской окраине довольно крупные «массовки», на которые сходилось до сотни рабочих городских предприятий и порта.
Агитацию там вели не только большевики, но и представители других левых и либеральных партий разной степени умеренности. Приходили и местные крестьяне, кстати, ругавшиеся на портрет Карла Маркса — мол, «жиды своего бога вывесили».
Боевик-налетчик
Весной 1906 года Гибс узнал, что власти готовят массовые аресты «смутьянов», и спешно перебрался в Николаев. Однако его всё равно арестовали, осудили за «нарушение общественного порядка» и сослали в Архангельскую губернию, откуда он немедля сбежал.
Вместе с товарищем, у которого были деньги и информация о петербургских явках-адресах, они проделали длительный пеший путь, скитались по лесам, а потом сумели пробраться в поезд, направлявшийся в Санкт-Петербург.
«Выйдя на одной из станций, Адамов отстал от поезда. Пришлось „зайцем“ добираться до столицы. Очутившись впервые в огромном незнакомом городе, не зная куда идти, без денег, юноша оторопело бродил по шумным улицам. К вечеру он совсем ослабел от голода и пришел в отчаяние, как вдруг кто-то горячо обнял его. Оказалось, что товарищ Адамова, беспокоясь о его судьбе, тоже бродил по городу, отыскивая своего спутника в привокзальных районах. Встреча друзей была очень радостной», — пишет советский литературовед и прозаик Мария Поступальская, знавшая Гибса, ставшего позже Адамовым.
В Петербурге Гибс получил от ЦК партии большевиков приказ участвовать в одной из дерзких акций прямого действия и срочно выехал в Крым. Дело происходило вскоре после знаменитого восстания на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Как известно, экипаж восставшего корабля, в конечном счете бросившего якорь у берегов Румынии, ушел в эмиграцию, но некоторые из матросов вскоре тайком вернулись на родину, были задержаны и угодили под суд. Бунтовщикам грозили суровые наказания, и руководство большевистской партии поручило своим боевикам устроить налет на здание суда в Севастополе, где хранились дела подсудимых потемкинцев.
План был прост: вечером, когда наружный патруль будет вышагивать на другой стороне огромного здания, позвонить, сказать швейцару, что принесли телеграмму, и, когда он откроет дверь, связать его. Затем требовалось очень быстро подняться на третий этаж, взломать несгораемый шкаф и уничтожить документы. Времени — полчаса максимум, так как здание каждые полчаса обходил внутренний патруль.
С самого начала всё пошло вкривь и вкось. Когда швейцар приоткрыл дверь, оказалось, что она на цепочке. Один из налетчиков, не растерявшись, рванул дверь изо всех сил и вырвал цепочку. Ошеломленного швейцара связали, перерезали телефонный шнур и бросились наверх. Но в искомом помещении оказался не один, а целых пять несгораемых шкафов!
Делать нечего, пришлось вскрывать шкафы по очереди. В первом оказались не те бумаги, зато во втором — то, что надо! Документы тут же подожгли, и комната наполнилась дымом. Снизу донеслись крики и топот. Но подпольщики не могли себе позволить немедленной эвакуации — надо было убедиться, что все нужные бумаги сгорели. Лишь когда дверь затрещала под ударами, смельчаки начали спуск по водосточной трубе. Все участники операции благополучно скрылись. Как позже выяснилось, они спасли нескольких потемкинцев от смертной казни.
Результат революционной карьеры Гибса оказался закономерен: в том же 1906-м он был арестован. Доказать его участие в нападении на суд не удалось, и юноша отделался довольно легко. Его обвинили в ведении революционной агитации на кораблях Черноморского флота и на три года поместили в херсонскую тюрьму. Выйдя из нее с изрядно подорванным здоровьем, Гибс стал работать журналистом.
В частности, в 1911–1914 годах он редактировал легальную социал-демократическую газету «Юг», выходившую в Херсоне. После того как по распоряжению властей «Юг» был закрыт, Гибс перешел в аналогичное издание с измененным названием — «Правда юга». Закончилось это очередным арестом и новым тюремным заключением, причем на сей раз двери узилища перед ним открыла революция 1917-го.
Впоследствии Абрам-Герш успешно встроился в структуры новорожденного Советского государства: успел поработать в Наркомпроде и Госиздате, затем трудился заведующим финансовым отделом Госторга РСФСР и Кишпромторга. К слову, во время работы в Наркомпроде Гибс познакомился и подружился с Отто Юльевичем Шмидтом — будущим академиком, выдающимся ученым и героем-полярником. Вероятно, именно общение с ним и вызвало у Гибса первый интерес к науке и к Арктике.
Проба пера
Не оставил Абрам-Герш и журналистскую деятельность, но высот в ней не достиг, ибо публиковался далеко не в самых влиятельных изданиях, таких как журнал «Наши достижения» и газета «За индустриализацию». Однако именно работа в этих изданиях, предназначенных для освещения процесса технологической модернизации Советского Союза, помогла Гибсу обрести истинное призвание. Оказалось, что его очень интересуют и восхищают достижения науки и техники. Он описывал исследования в области использования подземного тепла, рассказывал о развитии металлургии, геологии.
Совершая в качестве корреспондента поездки по стране, ваяя очерки о строящихся в СССР индустриальных гигантах, Абрам-Герш загорелся идеей стать писателем. Несмотря на то, что ему уже было без малого пятьдесят, этот свой план он успешно реализовал.
Чтобы понимать атмосферу общества, в которой предстояло творить новоиспеченному писателю, следует осознавать специфику жизни в тогдашнем СССР. С одной стороны, постепенное усиление репрессий, достигших пика в 1937–1938 годах, и подспудный страх, ощущаемый практически каждым жителем Страны Советов — никто не имел гарантии, что не окажется следующим, кого обвинят в работе на иностранную разведку, вредительстве, враждебной агитации. А дальше уже как повезет: либо краткий путь к расстрельной стенке, либо ссылка, каторга, изнурительный рабский труд на стройках коммунизма…
Но существовал и иной пласт реальности, о котором пишет Аркадий Адамов, сын нашего героя: «Начало литературной деятельности Г. Б. Адамова относится к сложному и драматичному периоду в жизни нашего общества. И всё же одной из характерных его черт был невиданный энтузиазм индустриального строительства. Росли гиганты первых пятилеток и вместе с ними жажда научного познания, научных открытий овладевала обществом, наперекор, вопреки слепому и злобному сталинскому террору, разорению деревни. Люди той поры жадно тянулись к знаниям, видели в этом, наверное, и какую-то опору своим мечтам о лучшем, справедливом будущем. А газеты и журналы сообщали всё о новых, ошеломляющих научных открытиях и технических достижениях. Выходил и специальный журнал „Наши достижения“, редактором которого был Михаил Кольцов».
Упомянутый Михаил Ефимович Кольцов (Моисей Хаимович Фридлянд), одно время являвшийся редактором нашего героя, в 1938-м был арестован, обвинен в «антисоветской троцкистской деятельности и в участии в контрреволюционной террористической правотроцкистской организации». В ходе следствия подвергался невыносимым пыткам, под действием которых оговорил ряд своих знакомых, многие из них также были арестованы и впоследствии расстреляны вместе с ним. Абрама-Герша Гибса, к тому времени сменившего имя на Григория Адамова, эта участь миновала…
Пространство советской фантастической литературы, в которое предстояло вписаться новому автору, было на тот момент довольно разреженным. Уже действовала установка, что творить следует фантастику ближнего прицела — то есть, не отвлекая граждан россказнями о далеких космических перелетах, ориентировать их на решение текущих задач, стоящих перед страной.
Тем не менее еще в 1908 году революционер-большевик, философ-утопист и ученый-энциклопедист Александр Богданов (Малиновский) написал роман «Красная звезда», в котором отправил своих героев прямиком на Марс. Спустя пятнадцать лет подобное деяние совершил Алексей Толстой в «Аэлите». С середины 1920-х начинают один за другим выходить романы Александра Беляева, который отличался умением облекать плоды своего богатейшего воображения в блестящую литературную форму. Это — несомненная классика.
На другом фланге пребывали авторы вроде Григория Гребнева и Владимира Владко, большей частью штамповавшие непритязательные вещи с описанием гигантских дирижаблей передовой конструкции, промышленных роботов, суперавтомобилей, лучевого оружия и прочих технологических чудес, которые уже в ту эпоху отнюдь не казались чрезмерными. И Гребнев, и Владко на сегодняшний день по большому счету прочно забыты — и та же судьба, казалось, ожидала и Григория Адамова, занявшегося той же самой фантастикой ближнего прицела…
Адамов сразу замахнулся на роман «Пути будущего». С большой задачей начинающий писатель не справился. Но он вычленил из незавершенного романа «Рассказ Диего», в 1934-м его опубликовали в журнале «Знание — сила».
В этой дебютной вещице, пафос которой направлен против ужасов капиталистической эксплуатации, повествуется об аргентинце Диего, работавшем на приливной электростанции. Герой рассказывает, как чуть не погиб из-за того, что в его стране работу машин ставят гораздо выше жизни человека…
Вскоре «Знание — сила» публикует следующий адамовский опус «Авария». Рассказ посвящен новейшей электростанции на острове Диксон, работающей за счет разницы температур между морской водой и зимним морозным воздухом. Но однажды ее работу нарушает пурга необычайной силы и свирепости. Из-за этого ЧП огромная территория может остаться без электроэнергии, и аварию надлежит спешно устранить… Затем последовали рассказы «Оазис Солнца», «В стратосфере» и «Завоевание недр», из которых наибольший интерес представляет последний, ставший зародышем адамовского дебюта в большой форме.
Путешествие к центру Земли
Роман «Победители недр» был опубликован Детиздатом в 1937 году тиражом 25 300 экземпляров. С тех пор «Победители недр» переиздавались шесть раз — последнее на данный момент издание вышло в 2017 году. Причем даже сверхискушенные современные читатели в целом оценивают роман весьма комплиментарно. Хотя, казалось бы, сюжет с неба звезд не хватает — он достаточно типичный для советских 1930-х.
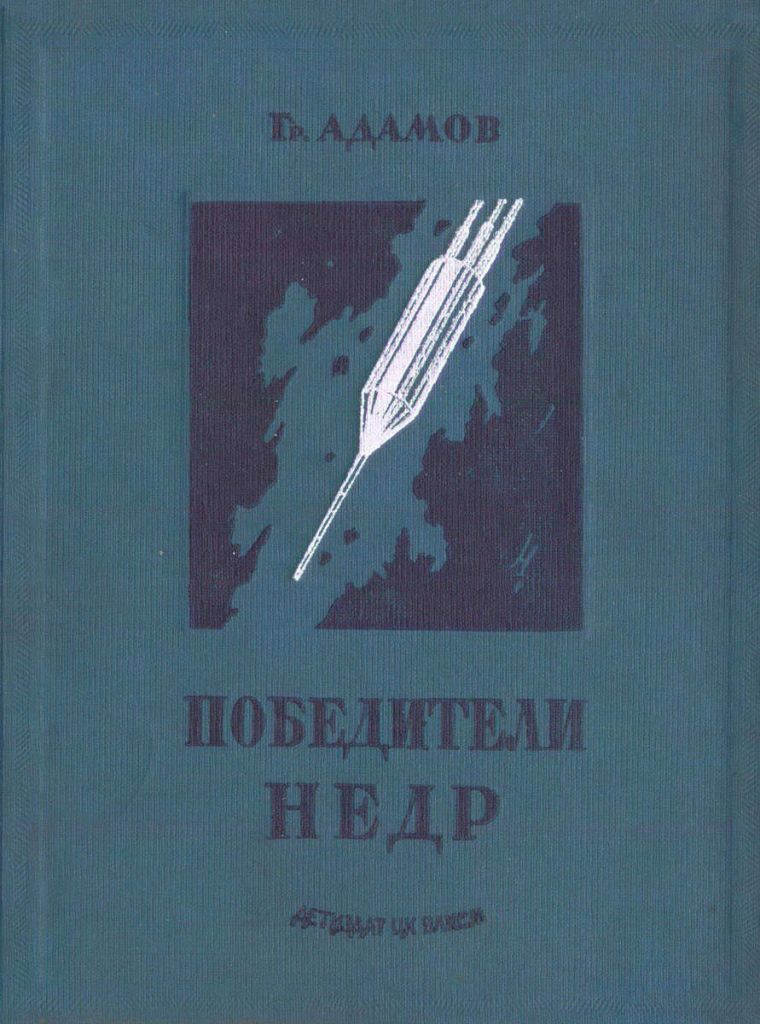
Инженер Никита Мареев додумывается до создания нового, альтернативного источника энергии — необходимо обустроить на невероятной глубине под поверхностью земли термоэлектростанцию. По проекту Мареева строится специальный бурильный снаряд, на котором он отправляется в небывалую экспедицию вместе с друзьями Михаилом Брусковым и Ниной Малевской.
Но вскоре после начала экспедиции обнаруживается сюрприз — на борт снаряда тайком пробрался пионер Володя Колесников, обуянный романтическим стремлением к подвигам. Высаживать зайца поздно — и снаряд продолжает вгрызаться в земные недра с экипажем из четырех человек. Впереди их ждут страшные испытания и ужасные опасности.
В кульминационный момент романа гибель четверых исследователей кажется неминуемой — но их спасает мужество и находчивость Володи. Они успешно возвращаются, а оставленная ими в недрах Земли электростанция начинает снабжать страну энергией…
В чем секрет успеха этого, казалось бы, простенького и безыскусного произведения? Дело в том, что Григорий Борисович сумел найти правильный ракурс, взять правильную ноту. В советскую эпоху фантастику считали литературой в первую очередь для детей — и Адамов создал произведение именно для этой аудитории. Можно сказать, что он перенял эстафету у писателей-приключенцев своего собственного детства: Жюля Верна, Луи Буссенара, Луи Жаколио, Эмилио Сальгари, которые также ориентировались в основном на подростков.
Кстати, в Советском Союзе того же Жюля Верна с самого начала считали автором весьма полезным — за то, что он, дескать, умеет будить в ребенке воображение и вдохновляет его на созидательную деятельность. При этом в советской литературной среде 1920-х шли дискуссии о том, что нужно как-то «осовременить» Жюля Верна и приспособить его к текущей действительности. От идеи переписать романы Верна под современность, к счастью, отказались, но именно тогда по факту была обозначена потребность в «советском Жюле Верне». И Адамов своими «Победителями недр» показал, что является главным претендентом на эту вакансию.
События «Победителей недр» в значительной степени показаны глазами ребенка, через непосредственное детское восприятие. Читателю предлагается разделить это восприятие — восхищаясь широтой задумки Мареева, придуманным им снарядом, поражаясь подземным чудесам природы, испытывая неподдельное отчаяние в момент гибельной опасности.
Именно Володя Колесников по факту оказывается главным героем романа, так как без него экспедиция закончилась бы катастрофой и трагедией. Советские дети конца 1930-х, родители которых по их просьбам смели первый тираж «Победителей недр» с прилавков, отождествляли себя с Володей и мечтали совершить такие же подвиги.
А еще книга воспринимается как очень правдоподобная — недаром «Победители недр» удостоились похвалы академика Владимира Обручева, авторитетного геолога, который и сам баловался фантастико-приключенческой прозой («Плутония», «Земля Санникова»).
70 тысяч миль под водой
В 1939 году Детиздат выпускает тиражом в 20 000 экземпляров второй роман Адамова, ставший самым известным его произведением, — «Тайну двух океанов» (годом раньше его частично публиковали «Знание — сила» и «Пионерская правда»). Суммарно он переиздавался в СССР/России 38 раз (в последний раз в 2022 году), был переведен на сербский, болгарский, чешский, словацкий, украинский, немецкий, литовский, венгерский, эстонский, румынский, латышский, японский и армянский языки.
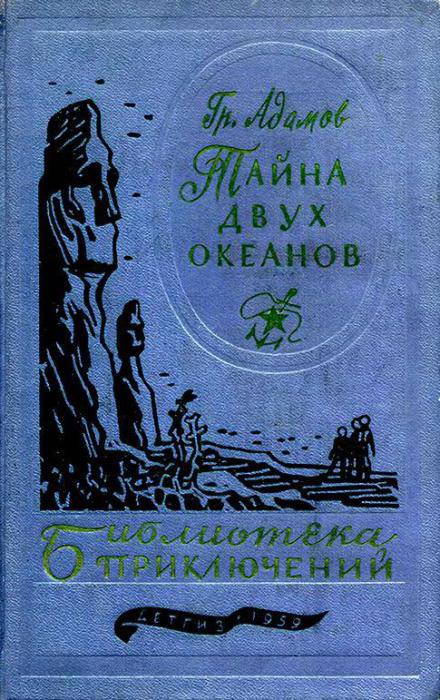
Более того, в 1956 году роман был экранизирован, хотя сценаристы внесли в адамовский сюжет существенные изменения. Картина «Тайна двух океанов» имела немалый успех у зрителя.
Судя по отзывам, книга интересна и современным читателям, воспринимающим ее как образчик популярного ныне жанра альтернативной истории — качественного винтажного дизельпанка.
У автора этих строк с «Тайной двух океанов» сложились в детстве свои отношения. Я прочел этот роман в году, кажется, 1989-м, будучи еще советским пионером, — мне попалось в руки издание 1986 года, выпущенное издательством «Правда» в серии «Мир приключений». Стоило мне одолеть первые несколько страниц — и я залип.
Прочитав роман в первый раз, я потом неоднократно его перечитывал. Я таскал с собой книгу буквально всюду, бредил образами героев, оживленно обсуждал перипетии сюжета с приятелем Колей Семко, позже переехавшим с семьей из нашего Даугавпилса в далекий Нью-Йорк. Я и по сей день считаю «Тайну» одним из лучших приключенческих романов моего детства. Правда, с начала 1990-х я ни разу его не перечитывал — где был счастлив, туда не возвращайся. В детство не вернуться в любом случае, а восприятие циничного 46-летнего мужчины далеко не то, что у восторженного 11-летнего юнца. Но сюжет до сих пор помню довольно хорошо.
Отчасти Адамов позаимствовал схему своего предыдущего романа. Главный герой — 14-летний Павлик Буняк, волею случая оказавшийся на борту секретной советской подлодки «Пионер», совершающей путешествие из Кронштадта во Владивосток.
Уже само описание великолепного «Пионера» захватывает воображение ребенка-читателя. Это огромная супертехнологичная субмарина, способная погружаться на любую глубину, сколь угодно долго находиться под водой, развивать поразительную скорость, оснащенная инфракрасными наблюдательными приборами и оружием невероятной силы — установкой, выпускающей ультразвуковые лучи, разрушающие молекулярную структуру вражеских кораблей.
Григорий Борисович подошел к написанию этого романа очень основательно. «Тысячи выписок по новейшей технике и технологии, по физике, химии и биологии моря в толстых клеенчатых тетрадях, груды папок с вырезками из газет и журналов о работе и новейших открытиях советских и зарубежных ученых, сотни новых книг, от объемистых научных трудов до „Памятки краснофлотца-подводника“ и „Правил водолазной службы“, скопились за это время в небольшом, темноватом кабинете писателя.
Зарешеченные окна этой квартиры выходили в мрачный колодец-двор. И вот за этими окнами перед отцом каким-то чудом разворачивались пленительные картины дальних океанских походов. Какой искристой, жизнерадостной фантазией пронизан весь роман! От невиданной, ошеломляющей конструкции чудо-лодки, ее оборудования и вооружения до гигантских морских чудовищ, обитающих в немыслимых глубинах Мирового океана и битв с ними членов экипажа „Пионера“»,
— рассуждает Адамов-младший.
Для этой книги важна персонажная составляющая. На борту «Пионера» путешествует дружный экипаж, становящийся для Павлика — и читателя! — настоящей семьей. Обаятельные образы водолаза Скворешни, зоолога Лордкипанидзе, океанографа Шелавина, электрика Бронштейна, химика Цоя и прочих членов команды вплоть до самого капитана Воронцова надолго оседают в памяти.
Экипаж «Пионера» переживает каскад головокружительных приключений — спасает терпящих бедствие китобоев, исследует затонувшую средневековую каравеллу, сражается с осьминогами, кашалотами и гигантскими крабами, изучает следы древней цивилизации, некогда существовавшей на затонувшем в Тихом океане континенте. Причем Адамов, сам того не желая, вдохновил поколения будущих советских криптозоологов — благодаря эпизоду, в котором команда «Пионера» сталкивается в глубинах с выжившими потомками мезозойских плезиозавров…
Автор вводит в роман еще одну линию, которая полностью соответствовала духу времени, — шпионско-детективную. Империалистическая Япония, с которой враждует Советский Союз, готова пойти на всё, чтобы чудо-субмарина не добралась до Владивостока. Японцы перед началом путешествия сумели внедрить в экипаж своего агента, который творит всевозможные козни — и в конце концов близ острова Пасхи взрывает «Пионера». Черт побери, я испытал невероятное волнение, когда читал эту главу, закончившуюся клиффхэнгером — «Пионер» взрывается, а потом автор в течение всей следующей главы держит интригу: выжил ли экипаж субмарины или нет? Как потом оказывается, команда уцелела и даже сумела спасти субмарину от гибели. Но испытания на этом не заканчиваются: тяжело поврежденному «Пионеру» предстоит бой с японской эскадрой…
Одним словом, это захватывающее, мастерски написанное произведение, которым Адамов окончательно доказал свое право на звание «советского Жюля Верна». Как и великий француз до него, Григорий Борисович отнюдь не стремился только развлечь ребенка — «Тайна двух океанов» содержит большой объем научной информации: о современных для автора технических достижениях, об океанской флоре и фауне и т. д.
Причем всё это подается очень мягко и ненавязчиво, но тем надежнее оседает в памяти. Юные читатели «Тайны двух океанов» загорались желанием стать кораблестроителями, энергетиками, физиками, химиками, океанографами — и многие исполнили свою мечту.
Дети засыпали писателя восторженными письмами: «Только не уезжайте без меня, дорогой писатель Адамов! Я пристараю себе денег и буду на вашем „Пионере“, когда вы скажете». Но автор этого бестселлера уже пылал новыми планами. Едва покончив с «Тайной», он приступил к третьему роману — «Изгнанию владыки».
Прыжок в утопию
Поскольку на сей раз основная часть действия должна была проходить в Арктике, Адамов собирает у себя целую библиотеку, посвященную этому региону. Он действует в точности как Жюль Верн, который перед началом очередного романа собирал у себя горы книг и выписок по интересующей его теме. На столе, полу и на стареньком диване в московской квартире Адамова растут горы папок с вырезками из газет и журналов по интересующей его теме.
«Адамов казался беспечным весельчаком, однако с огромной серьезностью относился к своему писательскому труду. Он выглядел очень здоровым, но был тяжело болен; представлялся людям счастливцем, а жизнь его складывалась вовсе не легко и не просто», — сообщает Поступальская.
Но одним только дистанционным изучением темы дело на сей раз не ограничилось — Григорий Борисович, человек уже немолодой и с расшатанным здоровьем, совершает долгое и трудное путешествие в Арктику.
«Дальние поездки на собаках и оленях по бескрайним снежным просторам Кольского полуострова и Большеземельской тундре, плавание на быстроходных рыболовецких сейнерах к Шпицбергену и на легендарных довоенных ледоколах на Новую Землю и Диксон, бесчисленные встречи и беседы с оленеводами, моряками-полярниками, учеными принесли множество ярких впечатлений. Помню, мы заслушивались его рассказами. И долго еще шли из Арктики письма от новых друзей. Люди делились радостями и горестями, сообщали новости. Григорий Борисович отвечал старательно и охотно и в свою очередь засыпал своих корреспондентов вопросами, которые возникали по ходу работы над романом», — делится Аркадий Григорьевич.
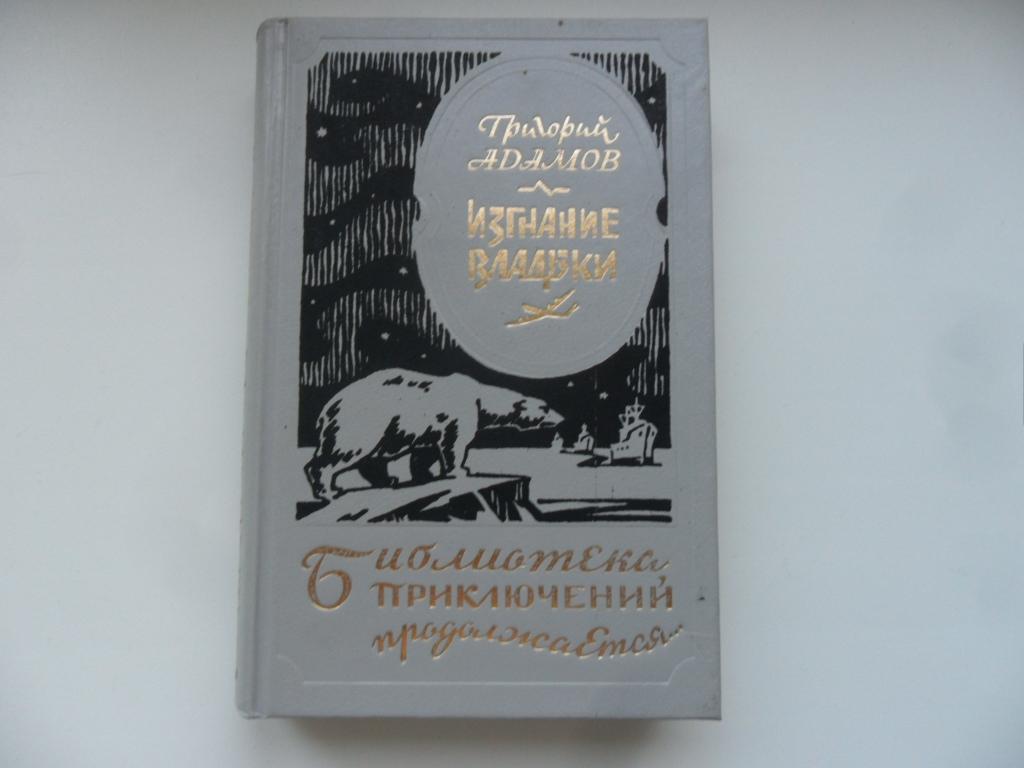
Этот роман — самый грандиозный у Адамова по масштабу описываемых событий. Если действие «Победителей недр» и «Тайны двух океанов» происходит в сегодняшнем дне читателя, то в «Изгнании владыки» оно перенесено лет на тридцать вперед.
Альтернативно-ретрофутуристический СССР воплощает проект планетарной важности — поворот теплого течения Гольфстрим таким образом, чтобы оно, изменив направление, избавило бы Крайний Север от вечной мерзлоты, превратив его в цветущий край и сделав Северный морской путь доступным для круглогодичной навигации.
Можно сказать, что тут Адамов подхватил идею, носившуюся тогда в воздухе. В 1930 году советский моряк Евгений Гернет издал в Японии книжку «Ледяные лишаи», в которой предложил грандиозный проект утепления северных регионов средствами науки и техники. Среди восторженных читателей этой книги оказались Горький и Паустовский…
Работу над «Изгнанием владыки» прервала война. В силу возраста на фронт Адамова не взяли. Первые военные годы, с осени 1941-го по весну 1943-го, он провел с родными в эвакуации в Пензе, где собирал материал для документальной повести об уроженце тамошних краев хирурге Н. Н. Бурденко. Одновременно вернулся к «Изгнанию владыки». Однако испытания военных лет окончательно подорвали здоровье писателя, и 14 июля 1945 года он умер в Москве.
Впрочем, работу над романом он в целом успел завершить, и в 1946-м книга вышла в Детгизе — тиражом в 30 000 экземпляров. С тех пор роман девять раз переиздавался в нашей стране, а также переведен на чешский и польский языки. Сохранилась и неоконченная повесть Адамова «Идео-лирит», но она была впервые опубликована только в 2016 году.
Современный критик Алексей Королев называет «Изгнание владыки» одним из двух лучших, наряду с «Полднем, XXII век» Стругацких, русских романов об обществе победившего коммунизма.
Отчасти роман наследует фабулу предыдущих произведений Адамова — тут опять в центре сюжета присутствует юный пионер Дима Денисов, и снова имеет место зловещий заговор с участием агентов иностранных разведок, на сей раз особенно разветвленный. Наличествуют и герои-чекисты, сражающиеся с засланцами, — одного из этих чекистов, майора Комарова, автор даже приносит в жертву под занавес.
Но «Изгнание владыки» любопытно отнюдь не этими, типичными для литературы сталинской эпохи построениями. Интересен сам тщательно проработанный автором мир будущего — чисто с точки зрения бытописательства. Сидя в полуголодной эвакуации, Григорий Борисович детальнейшим образом описывал, как в счастливой стране будущего работает транспорт — все эти стратопланы, электропоезда и электроциклы, геликоптеры и орнитоптеры, рейсовые ледоколы, прокат автомобилей, — как функционирует связь (всевозможные телевизефоны), коммунальное хозяйство.
Всюду царит автоматизация, а разнообразная машинерия призвана на каждом шагу облегчать повседневную жизнь. Подробно рассказывается о том, какими вопросами и интересами живут обитатели бесклассового общества, как они проводят свободное время, как питаются, во что одеваются. В целом это очень уютный мир, но, сдается, даже на первых читателей роман производил впечатление несбыточной утопии…
Итак, Григорий Борисович Адамов умер в 59 лет, успев написать лишь три романа. Он ушел, уступив дорогу фантастам нового поколения, которые заговорили с читателями на ином языке, поставили перед ними вопросы совершенно другого уровня сложности. В 1944–1946 годах были написаны «Великая дуга» и «Звездные корабли» — первые значительные вещи Ивана Ефремова. В 1952-м Аркадий Стругацкий сделал наброски того, что впоследствии превратилось в «Страну багровых туч»… Что же до Григория Адамова, то в общественном сознании он остался в тени своего сына Аркадия, тоже выбравшего писательскую стезю.
Аркадий Адамов по степени известности значительно превзошел своего отца. Преемственность их творчества относительная — сын позаимствовал у отца лишь детективную линию, которая у того играла второстепенную роль. Аркадий же Адамов стал первым из широко известных советских детективщиков: его «Дело „пестрых“» и прочие произведения об оперативнике Сергее Коршунове, а также трилогия об инспекторе Лосеве снискали большой успех. Они выходили тиражами, которые отцу Аркадия даже не снились. Однако, как показало время, не затерялся и Григорий Адамов. И разве это мало — целых три романа, которые до сих пор вызывают интерес у читателей?
Поделитесь этой статьей с тем, кто любит читать