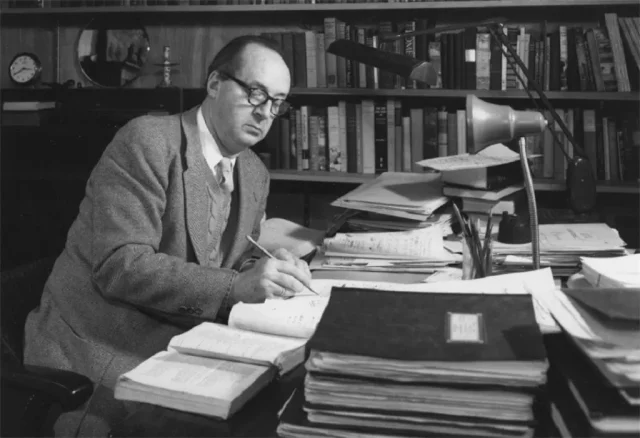Фрейд заходит на фМРТ: что такое нейропсихоанализ
Нет, нейропсихоанализ — это не разбор инцестуальных фантазий с ChatGPT.
Долгое время биологи и медики пренебрегали психоанализом, считая его мистическим толкованием снов с использованием печенек с предсказаниями. Однако в последние десятилетия начало стремительно развиваться междисциплинарное направление на стыке нейробиологии и психоанализа, которое подтверждает идеи Фрейда, касавшиеся бессознательного, защитных механизмов и принципа удовольствия. Об открытиях нейропсихоанализа рассказывает психоаналитик Андрей Россохин, автор книги «Тайны нашего бессознательного: Теория психоанализа», которая вышла в издательстве «Альпина Паблишер».
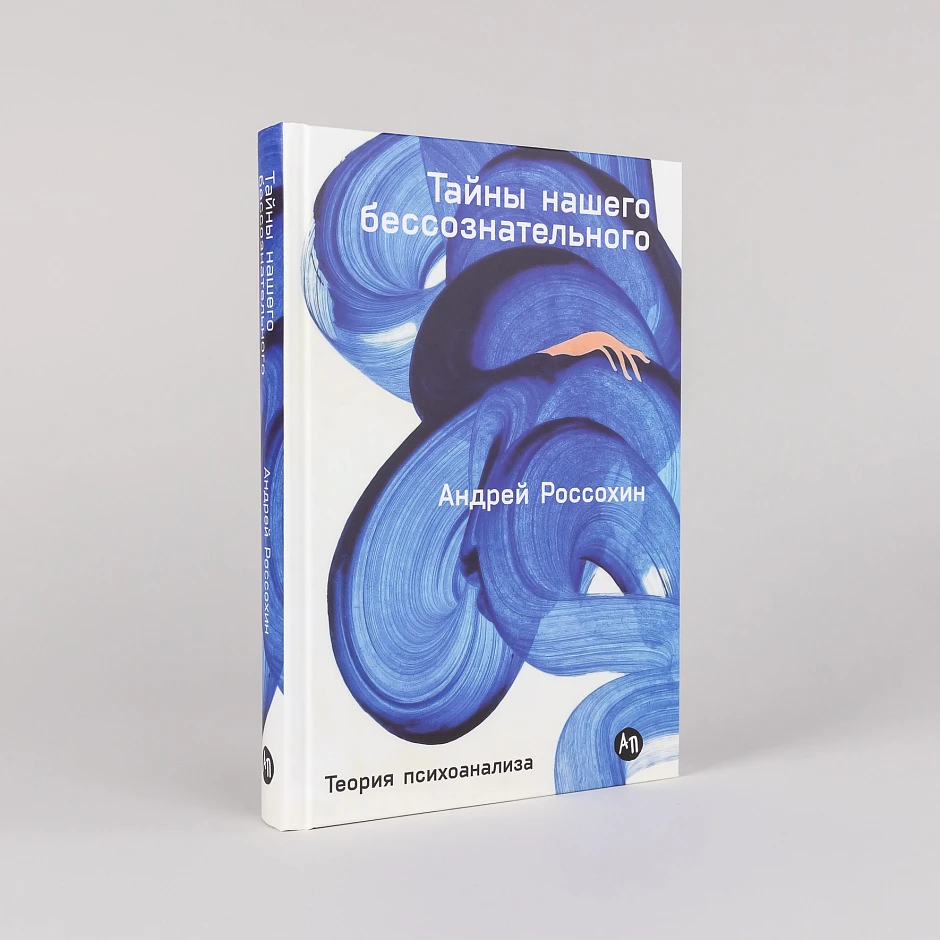
Естественные науки и гуманитарные дисциплины представляют собой два разных, но взаимодополняющих подхода к познанию мира. Наука стремится к объективному объяснению и предсказанию объективных явлений, в то время как гуманитарные дисциплины фокусируются на понимании субъективного опыта человека, его внутреннего мира и культуры.
Научные методы исследования — эксперименты, измерения, математическое моделирование, статистический анализ — стремятся к объективности и воспроизводимости результатов. В гуманитарных методах исследования — таких, как интерпретация, анализ текстов, герменевтика, сравнительный анализ, качественные исследования, — больше внимания уделяется субъективному опыту, смыслам и ценностям.
Естественные науки направлены на объяснение и предсказание явлений физического мира, открытие законов природы, разработку технологий. Гуманитарные науки — на понимание человеческого опыта, интерпретацию культуры и истории. В науке исследователь стремится к максимально объективному изучению внешнего объекта, минимизируя свое влияние на него. В гуманитарных направлениях исследователь непосредственно взаимодействует с исследуемым объектом (человеком, культурой), и это взаимодействие влияет на результаты, что делает их субъективными и невоспроизводимыми.
Исходя из этих различий, кажется, что все усилия Фрейда вписать психоанализ в область естественных наук оказались тщетными и правы критики психоанализа, утверждающие, что он не наука.
Я должен заметить, что и сама психология вынуждена беспрестанно доказывать, что относится к естественным наукам, и это у нее получается лишь благодаря тем ее направлениям, где можно изучать человека, его память, восприятие, внимание статистически, с привлечением большого количества испытуемых.
Такие важнейшие области психологии, как психоанализ, где проведение подобных объективных исследований кажется нелепым, абсурдным или совсем невозможным, оказываются в результате в промежуточном пространстве между наукой и гуманитарными дисциплинами и, соответственно, легко подвергаются критике со стороны ученых, изучающих человека так же, как физики изучают объекты физического мира, — например, со стороны нейробиологов, исследующих мозговую активность.
Множество сновидений каждую ночь
В течение почти 100 лет психоанализ и нейронаука существовали как два отдельных мира, каждый со своими методами, языком и представлениями о человеческой психике. Психоанализ фокусировался на бессознательных процессах, снах, фантазиях и символическом значении симптомов, в то время как нейронаука изучала мозг, нейроны, нейротрансмиттеры и физиологические основы поведения.
Психоаналитики уже практически смирились с невозможностью что-либо доказать объективной науке и почти перестали это делать. Негативные результаты отсутствия исследовательского взаимодействия между психоанализом и нейронаукой не заставили себя ждать.
В начале 1950-х гг. американские нейрофизиологи Юджин Азеринский и Натаниэл Клейтман зашли на святую святых психоанализа, начав исследования сновидений с помощью ЭЭГ (электроэнцефалографа) и замеряя уровень мозговой активности засыпающего и спящего человека.
Никто из физиологов раньше не проводил таких экспериментов, поскольку считалось, что во время сна спит и мозг. В результате этих исследований ученые стали первооткрывателями фазы быстрого сна.
Они обнаружили, что, когда человек засыпает, в течение первых 30 минут происходит замедление мозговой активности, уровень возбуждения и активности снижается.
Именно это ожидали и прогнозировали Азеринский и Клейтман. Однако затем — и это оказалось совершенно неожиданным для исследователей — начинала происходить повторная активизация мозга. Причем до столь высокого уровня, что еще чуть-чуть, и человек мог бы проснуться. Затем снова замедление — и новая активизация. Человек спал, но, согласно показаниям ЭЭГ, периодически «бодрствовал».
В результате была открыта циклическая структура сна, включающая в себя четыре фазы медленного и фазу быстрого сна, общей продолжительностью примерно 90 минут. <…> Каждые 90 минут наш мозг сначала засыпает, потом разгоняется практически до состояния пробуждения и вновь засыпает. Азеринский и Клейтман назвали этап активного возбуждения мозга парадоксальным, так как действительно странно, что человек в одно и то же время спит и бодрствует. Они предположили, что именно в период парадоксального сна человек видит сновидения.
Проверить это было легко. Нужно было в период парадоксального сна разбудить человека и спросить у него, видит ли он сновидение. Подтверждения были получены. Если спящего будили во время фазы быстрого сна, он рассказывал о сновидениях. Если будили во время фазы медленного сна, рассказывать ему было нечего.
Открытия Азеринского и Клейтмана еще не угрожали психоанализу, а напротив, казалось, подтверждали важность сновидений в жизни человека.
Только представьте — в течение сна каждого человека продолжительностью около восьми часов он проходит пять полных циклов сна и, соответственно, пять фаз быстрого сна со сновидениями.
Это означает, что практически все мы, за исключением людей с нарушениями зон мозга, ответственных за сновидения, видим не одно-два сновидения, как мы думаем, а большое их количество, причем по пять раз за ночь!
С точки зрения даже простого здравого смысла это должно было иметь какое-то важное значение.
Нейрофизиологический нокдаун психоанализу
Но все оказалось не так просто. Сначала французский нейрофизиолог Мишель Жуве в 1965 г. показал, что способность видеть сновидения во время фазы быстрого сна локализуется в очень древней структуре в верхней части мозгового ствола. Через 10 лет, в 1975 г., его бывший студент, американский нейрофизиолог Джон Аллан Хобсон смог показать, что именно происходит в этом участке мозга: каждые 90 минут ацетилхолин впрыскивается в кортекс из мозгового ствола и запускает активацию всей коры, благодаря чему и происходят сновидения. По мнению Хобсона, это совершенно случайная активация, поэтому она не имеет никакого смысла — просто случайный «шум».
Неудивительно, что Хобсон выбрал себе в оппоненты Фрейда, чьи идеи и концепции нещадно критиковал и разносил в пух и прах. Нейротрансмиттер ацетилхолин, согласно Хобсону, никак не связан ни с нашими желаниями, ни с либидо, ни с чем-либо еще психологическим или психоаналитическим. Он утверждал, что сновидения подобны пятнам Роршаха и люди вкладывают в них свой смысл, как в пятна Роршаха, в то время как ни в пятнах Роршаха, ни в сновидениях этого смысла нет.
Психоаналитические интерпретации сновидений Хобсон называл «мистикой толкования снов с использованием печенек с предсказаниями».
Триумф Хобсона, воспринимаемый многими как окончательная победа нейрофизиологии над психоанализом, случился в 1976 г. Он выступил с результатами своих исследований сновидений на конгрессе Американской психиатрической ассоциации, которая в то время находилась под сильным влиянием психоанализа. После его выступления среди участников конгресса было проведено голосование по вопросу: «Считаете ли вы научной теорию сновидений Фрейда?» Две трети психиатров согласились с мнением Хобсона, что концепция Фрейда не имеет отношения к науке.
Это был очень серьезный и сильный удар по научному статусу психоанализа, после которого его влияние на американскую психиатрию начало неуклонно сокращаться при одновременном усилении биологической психиатрии, применяющей для лечения психических расстройств медицинские препараты.
Ответный нокаут, или скорее нокдаун — сражение продолжается
Спустя 30 лет, в 2006 г., на нейроконгрессе в Аризоне состоялись публичные дебаты ниспровергателя психоанализа Аллана Хобсона и основателя нейропсихоанализа Марка Солмса. Снова прошло голосование, и результаты оказались прямо противоположны предыдущему триумфу Хобсона: две трети участников конгресса проголосовали за признание фрейдовской теории сновидений научно обоснованной.
Что же произошло? Марк Солмс представил теорию Фрейда, подкрепленную нейробиологическими доказательствами, полученными им в течение 20-летних исследований мозговой активности. Он заявил, что «все, что мы узнали от Фрейда, подтверждается современной наукой».
Солмс родом из Южной Африки.
Когда он был маленьким мальчиком, то увидел, как его любимый старший брат упал с крыши и проломил себе череп. Брат выжил, но травмы мозга привели к сильным изменениям его личности. Эта страшная ситуация пробудила в маленьком Марке глубокое желание понять, как функционирует мозг человека.
Он хотел уяснить, как такое возможно: вчера был один человек, одна личность, а потом внезапно это куда-то исчезло и безвозвратно изменилось. Поэтому Марк стал нейробиологом, исследовавшим случаи повреждений разных отделов мозга в результате операций по удалению опухолей и инсультов.
Не только исследуя, но и внимательно слушая своих пациентов, он начал интересоваться связью психологии, а затем и психоанализа с нарушениями деятельности мозга. Продолжая нейробиологические исследования мозга, Солмс прошел свой собственный анализ в качестве пациента и получил психоаналитическое образование в Британском психоаналитическом обществе, став членом Международной психоаналитической ассоциации.
Сновидения охраняют наш сон
Продолжившиеся в 1980-х гг. нейробиологические исследования сновидений вскрывали все более интересные факты. Читатель помнит, что до этого момента все были уверены, что человек видит сны только в фазе глубокого сна (REM) и не видит их в фазе Non-REM. Новые результаты показали, что человек, оказывается, может видеть сны не только в REM-фазе, но и в Non-REM-фазе (примерно 25% сновидений).
Более того, когда исследовали пациентов, у которых были повреждены части мозга, ответственные за REM-сон, то обнаружили, что они теряют способность к сновидениям в REM-фазе, но все равно продолжают рассказывать о своих сновидениях.
Все это вновь поставило, казалось бы, уже отброшенные вопросы о том, что такое сновидения, зачем они нужны, почему они происходят и какие именно зоны мозга за них отвечают.
Именно на эти вопросы Марк Солмс с 1985 г. направил свои нейробиологические исследования. Он обнаружил, что во время сновидений в головном мозге деактивируется префронтальная кора, отвечающая за мышление и контроль эмоций, и гиперактивируется лимбическая система, отвечающая за все наши базовые эмоции, эмоциональные потребности и способы поведения, связанные с удовлетворением этих эмоциональных потребностей.
Как установил Солмс, повреждение определенной цепочки лимбической системы приводит к тому, что сновидения полностью прекращаются.
Эта цепочка имеет непростое нейробиологическое название — мезокортикальная мезолимбическая дофаминовая система. Простое ее название — система поиска (seeking system).
Согласно нейробиологу и нейропсихоаналитику Яаку Панксеппу, это система, направленная на поиск удовлетворения своих неудовлетворенных потребностей. Например, когда щенка отнимают от матери, у него активируются система паники, связанная с сепарацией, и одновременно система поиска, благодаря которой он ищет способ восстановить связь с матерью, найти ее.
На следующем этапе исследований Солмс обратился к идее Фрейда о том, что сновидения служат сохранению сна, то есть мы видим сны для того, чтобы не просыпаться. Итак, во время сна отключается контроль сознания, префронтальная кора деактивируется, система поиска активируется даже больше, чем в бодрствовании.
Неудовлетворенные желания, которые требуют удовлетворения, активируются еще мощнее и более интенсивно, чем во время бодрствования. Эти желания галлюцинаторно удовлетворяются во время сновидений, так как наша моторная система заблокирована и мы не можем перейти к любым действиям, направленным на удовлетворение желаний.
Остается только бессознательно фантазировать — то есть галлюцинировать. Эти галлюцинации и сохраняют сон — человек не просыпается, чтобы перейти к действиям.
Вспомните, как я описывал тревогу маленького ребенка, который должен спать в своей кроватке и которого родители не пускают в их комнату и в их кровать. Он успокаивается только тогда, когда постепенно засыпает, погружаясь в бессознательные фантазии — галлюцинируя о том, что на самом деле находится вместе с родителями. Его моторика блокирована, он спит, но сновидения удовлетворяют его неудовлетворенные желания, тревога уменьшается, он успокаивается и постепенно засыпает все более глубоким сном.
Мы видим, как сон сохраняет удовлетворение неудовлетворенного желания, препятствуя включению моторной системы, переходу в бодрствование с целью физически пробиться в спальню к родителям.
Важно, что нейробиологические исследования Марка Солмса, Яака Панксеппа, Антонио Дамасио, Кристины Альберини, Мауро Мансиа, Жоржа Норхоффа и других нейробиологов-нейропсихоаналитиков не просто подтверждают фрейдовские концепции, а описывают нейробиологические механизмы, задействованные в реализации самых различных психоаналитических феноменов и концепций: теории сновидений, теории влечений, системы сознательное— предсознательное—бессознательное, первичного и вторичного процессов, защитных механизмов, переноса, принципа удовольствия и неудовольствия, психосоматических расстройств и др.
В последние годы Марк Солмс исследует, как он это называет, трудную проблему сознания и убежден, что нашел его источник. Он считает, что человеческое сознание полностью основано на чувствах и исходит из наиболее древней части мозга.
Мост между бессознательным и мозгом
В завершение этой главы я хотел бы, чтобы читатель почувствовал размах и стремительное развитие нейропсихоанализа — нового междисциплинарного направления в современной науке на стыке нейробиологии и психоанализа, исследующего нейробиологические основы человеческого поведения и опыта, связывая мозговую деятельность с психоаналитической моделью психики.
Термин «нейропсихоанализ» появился в 1999 г. и был впервые использован Марком Солмсом, основавшим новый научный нейробиологический журнал с таким же названием.
За прошедшие 25 лет нейропсихоаналитиками были проведены обширные исследования, позволившие восстановить научный статус психоанализа.
Цель нейропсихоанализа состоит в том, чтобы предоставить экспериментальные данные, способные усилить базовые психоаналитические концепции, придать им анатомически-функциональную обоснованность и ответить на вопросы о том, каким образом сновидения, фантазии, воспоминания и чувства — все субъективное в человеке — формируются в физическом органе тела, в мозге; вернуть «психо-», психическое измерение в нейробиологию и продемонстрировать, что мозг не может быть понят без учета субъективного аспекта его природы.
Это новое направление использует самые современные научные методы исследования и нейровизуализации, такие как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), позволяющие исследовать мозговую активность и подтвердить или уточнить психоаналитические теории.
Основные принципы нейропсихоанализа:
• Мозг и психика — две стороны одной медали, психические процессы и мозговая активность неразрывно связаны. Наши мысли, чувства, воспоминания и бессознательные конфликты имеют свои нейробиологические корреляты.
• Психоанализ и нейронаука дополняют друг друга. Нейропсихоанализ использует методы обеих дисциплин, чтобы получить более полное и глубокое понимание человеческой психики.
• Исследования бессознательных процессов, которые ранее были недоступны для прямого наблюдения, открывают новые возможности для понимания сновидений, переноса, защитных механизмов и других ключевых понятий психоанализа.
• Интеграция теории и практики — стремление соединить теоретические концепции психоанализа с эмпирическими данными нейронауки, создавая более обоснованную и эффективную модель психического функционирования.
Нейропсихоанализ представляет собой важный шаг в развитии психоанализа и нейронауки, открывая новые возможности для понимания человеческой психики и лечения психических расстройств. Кроме подтверждения или уточнения психоаналитических концепций он может привести к созданию новых методов диагностики и лечения психических расстройств, основанных на понимании нейробиологических механизмов.
Будучи молодой и динамично развивающейся научной дисциплиной, открывающей новые горизонты в понимании взаимосвязи человеческой психики и работы мозга, нейропсихоанализ представляет собой мост между двумя мирами — психоанализом и нейронаукой, бессознательным и мозгом, объединяя их методы и знания для создания более глубокого и точного понимания человеческой психики.
Поделитесь этой статьей со знакомыми фанатами Фрейда, а также с его ненавистниками.