Незаметный раскол личности: как распадается на части «я» человека с комплексным ПТСР
«Если у меня все в жизни было нормально, почему мне плохо?» — вопрос, с которого начинается выявление комплексного посттравматического стрессового расстройства.
От комплексного посттравматического стрессового расстройства, по оценкам его исследователей, страдает в мире больше людей, чем от депрессии. Это состояние часто недодиагностируется, потому что, в отличие от ПТСР, оно вызывается не одним крупным серьезным событием, а рядом более мелких, травматический эффект от которых накапливается, но часто даже не осознается. Кандидат психологических наук Анастасия Жичкина написала о нем первую научно-популярную работу на русском языке — «Ну что с того, что я там был: путеводитель по кПТСР». Книга продается как в России, так и за рубежом. Публикуем фрагмент, посвященный тому, как меняется личность человека под влиянием этого заболевания.
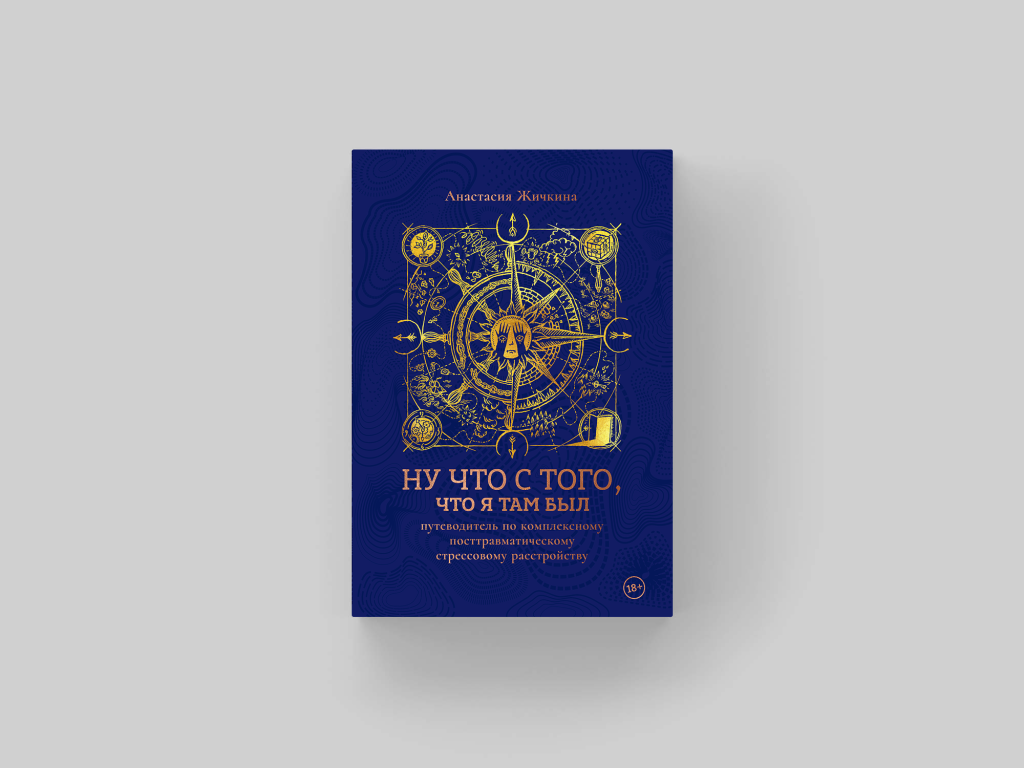
Основное последствие комплексной травмы — это структурная диссоциация, раскол личности на изолированные друг от друга части.
Что такое структурная диссоциация? Это не множественность личности в обычном понимании, когда человек один — с друзьями, другой — с родителями и третий — с коллегами по работе, а еще у него могут быть разные внутренние собеседники — кто-то из них ругает его, а кто-то, наоборот, поддерживает.
«Я» в принципе множественно. Мы все — разные в разных обстоятельствах с разными людьми.
Но обычно переключения между разными «Я» работают плавно и внешне незаметно, как автоматическая коробка передач — мы не чувствуем момент, когда передача переключается, и даже не всегда осознаем, что вообще есть какие-то разные передачи. В случае структурной диссоциации коробка передач сломана: плавность переключений пропадает, ручной режим не работает, а некоторых передач нет в принципе.
Структурная диссоциация — это не множественность. Не сам факт того, что личность не монолитна, а делится на части.
Структурная диссоциация — это потеря интеграции, невозможность частей связаться друг с другом. Когда в результате травмы части жестко отделены друг от друга и действуют несогласованно, так, что это не подходит к ситуации.
Как могут выглядеть части в результате структурной диссоциации?
Части личности довольно похоже описываются разными авторами: Фрэнком Патнемом, Джаниной Фишер, Онно ван дер Хартом и его коллегами в книге «Призраки прошлого», в модели IFS (Internal Family Systems), а также в схема-терапии (там они называются режимами).
Какие части появляются в результате травмы?
Пострадавшие части: я крепко впаян в этот лед
Это те части, которые аккумулируют в себе непережитый травматический опыт. Это могут быть детские части разных возрастов или даже младенческие, те, кого обычно называют «младшая версия» — но так как комплексная травма не всегда связана с детством, это могут быть и наши взрослые «Я». Поэтому я бы говорила именно о пострадавших частях.
Это те мы, кто пережил страдание и не смог спастись. Это части-«изгнанники» в терминологии IFS: поскольку кажется, что именно уязвимость была причиной травмы, то сознание обрывает контакт с уязвимостью — и пострадавшая часть остается запертой в одиночестве и в ситуации травмы.
Голос пострадавшей части: все всегда было плохо, и будет плохо всегда. Или: со мной глубоко что-то не так.
Выглядит как квинтэссенция когнитивных искажений. То, от чего лучше избавиться, пока это окончательно не испортило вам жизнь.
Но на самом деле пострадавшая часть — это то, что делает человека живым. Если бы он не был живым, ему не было бы так больно. Боль — это сообщение о том, что с ним было, и чего не должно было быть. Если после травматической диссоциации возвращается чувствительность — человек, переживший травму, описывает это как одновременно и как ощущение встречи с настоящей живой собой, и как сильнейшую боль:
«Боль — это все, что у меня осталось. Моя единственная ниточка к той настоящей части себя, которая проснулась летом. К живой себе. Помню холодящий ужас, когда эта часть открыла глаза после сна в десятки лет, посмотрела вокруг и поняла, что в моей жизни ей не предусмотрено места. Вся моя жизнь давно и прочно была организована так, словно живой меня не существует в природе.
Как, КАК я могла настолько себя забыть? И если уйдет боль, я могу забыть об этой части снова. Не хочу снова, как летом, проснуться через 15, 20 лет и осознать, что я потеряла связь с собственной основой. Уйдет боль — уйдет и контакт. Я обещала, что больше никогда не потеряю эту связь, чего бы мне это ни стоило.
Но и помочь я ничем не могу. У меня на руках словно обгоревший человек, но только он знает дорогу. Без его знаний мы никогда не выберемся и все погибнем. Держать его в сознании — это держать его в состоянии адской боли. Погрузить его в кому, как это делается в таких случаях — это потерять доступ к информации. И так я выбрала боль»
(Свидетельство из открытых источников)
Пострадавшие детские части очень подробно описаны в схема-терапии как «детские режимы» и считываются снаружи по характерному детскому поведению. Пострадавший ребенок может быть несчастным, одиноким, брошенным, неумелым, беззащитным, униженным — или может избегать трудностей и требовать как можно больше удовольствий: «Хочу, чтобы все игрушки на свете были мои». Ребенок может быть рассерженным, капризным и упрямым. Может хотеть то, чего здесь нет, и то, чего вообще на свете не бывает — и вообще-то имеет полное право этого хотеть: признать желания — это очень важно для восстановления.
Пострадавшую часть можно отличить по тому, что она всегда стремится к контакту — даже тогда, когда она одновременно несчастна и рассержена, и очень неудобно себя ведет: прячется или причиняет вред в отместку. У «все всегда было плохо» есть подтекст «докажи, что это не так» — обращение к собеседнику, иногда еле уловимое, но оно есть.
Восстанавливаясь после травмы, пострадавшая версия меняется — и именно она возвращает себе способность играть, смеяться, творить и получать удовольствие.
Так как при КПТСР плохое происходило много раз, то пострадавших версий может быть множество — столько, сколько было событий или серий событий. Для КПТСР очень характерно открывать все новые и новые пострадавшие «Я», видя свои очередные реакции, которые не подходят к ситуации.
«Внешне нормальная личность»: чтобы все шло как надо
«Внешне нормальная личность» — это часть, ответственная за то, чтобы приспособиться и устроить жизнь, несмотря ни на что. Часть-менеджер в терминологии IFS. Тот, кто следит за тем, чтобы все шло правильно. Тот, кто вывозит всегда, что бы ни происходило.
Тот, кто продолжает жить несмотря на то, что потеряны радость, удовольствие, способность играть и смеяться — все эти способности были у пострадавшей версии, и были потеряны в результате травмы. Мне очень нравится название «Стойкий», которое дала этой части переводчица Джанины Фишер Маргарита Андреева — в честь андерсеновского стойкого оловянного солдатика.
У внешне нормальной личности потерян контакт с уязвимостью — и это значит, что эта часть не чувствует свои ограничения, не очень умеет сочувствовать ни себе, ни другим, предпочитая вместо сочувствия решать проблемы, и в целом ведет себя как подросток, выживший в постапокалипсисе, взяв на себя ответственность за то, что в достаточно безумном окружении все будет нормально — или хотя бы будет нормально выглядеть.
Внешне нормальная личность:
• может быть совершенно бесстрашной и неуязвимой («Кого мне бояться, коли я в горе роблю?»).
• использует смещенную шкалу оценки: свое или чужое тяжелое положение сравнивается не со средним в популяции, а с какими-то действительно трудно выносимыми или совершенно невыносимыми обстоятельствами («Никто же не умер» или «Под Кандагаром было круче» или «Воспитывать приемных подростков несложно, эта работа не сложнее работы шахтера»).
Катастрофа воспринимается как нормальная жизнь, а нормальная жизнь — как катастрофа: ведь даже если в данный момент нет никакой угрозы, она может появиться в любой момент, при этом невозможно заранее угадать, когда именно. Именно поэтому многие посткомбатанты не находят себе места в мирной жизни — потому что на войне спокойно (у внешне нормальной личности отключены чувства), а в мирной жизни их одолевают постоянные напряжение и тревога: «Меня не от войны надо лечить, а от мирной жизни», ищут опасность и часто возвращаются в зону боевых действий — опасность помогает переключиться во внешне нормальную личность и отключить непереносимые переживания.
Это характерно не только для посткомбатантов: одна из стратегий внешне нормальной личности — испытывая напряжение, усилить его еще больше, чтобы увеличить диссоциацию и стать неуязвимым. Работать по 20 часов в сутки, заниматься экстремальными видами спорта, брать на себя в несколько раз больше обязательств, чем может выдержать человек.
• Исходя из смещенной шкалы оценки, цензурирует свои и чужие высказывания: не говорит о своей боли и отрицает такую возможность для других.
• Никогда не жалуется: «Я не помню ни одной жалобы от дедов и бабок, прошедших войну от Смоленска и до Берлина. Не помню, чтобы дед-инвалид, которого пытали в плену, стонал и что-то требовал, потому что он жертва нацистов».
• Часто требует «заткнуться» от тех, кто «ноет», «не смаковать проблемы». Внешне нормальная личность легко назначает цену чужому горю и испытывает раздражение по поводу чужих жалоб без достаточных оснований.
Важно: заткнуться нужно не потому, что обсуждение ставит под угрозу чью-то репутацию — а потому, что есть события, о которых больно вспоминать, «в доме повешенного не говорят о веревке», и начать о них говорить — это соприкоснуться с действительно ужасными вещами, которые никто не хочет допускать в свою жизнь даже на уровне обсуждения.
• Может вести себя высокомерно: почему вы не можете справиться, я же могу? Чужая уязвимость не вызывает ни понимания, ни сочувствия: что-что тебе сложно сделать?
На митинг выйти? Мы под бомбами, и ничего. Или: даже двенадцатилетние дети ведут своих родителей через границы, четко соблюдая инструкции волонтеров и общаясь в дороге на нескольких языках, я не понимаю, почему не все взрослые так могут.
• Хорошо решает проблемы, имея или создавая на ходу быстрые элегантные практичные решения для большинства сложных жизненных ситуаций. Эта способность очень помогает в тяжелые времена: в начале 2022 года были публикации в духе «сейчас время скомпенсированных травматиков».
Внешне нормальная личность — это тот, кто больше действует, чем говорит, в духе «некогда думать, трясти надо». Он (она) может очень хорошо посоветовать — и совершенно не может посочувствовать.
Стратегия не замечать ни свою, ни чужую уязвимость мощно помогает преодолевать трудности на короткой дистанции. Но со временем она может приводить к потере близких отношений (потому что игнорируется все, что не имеет отношения к эффективности), здоровья (потому что игнорируются все сигналы тела, отличающиеся от бодрости), а также к потере ощущения, что собственные действия и решения имеют какой-то смысл.
• Может стремиться сделать себя еще сильнее: часто целенаправленно ищет, как сделать свои чувства еще более приемлемыми для себя, а свою эффективность — еще выше. Бывает, что такой человек самостоятельно и достаточно грамотно использует для самоусиления психофармакологические препараты.
Внешне нормальная личность — это то в нас, что держит адаптацию. В обычной, нетравматичной
обстановке — это просто наша способность получить полезный результат. В тяжелых условиях — это характерное поведение много пережившего сильного человека, который в тяжелых обстоятельствах отрастил себе часть, способную выжить в любых условиях, которую не пугает ничего, но соответственно почти ничего и не задевает.
Внешне нормальная личность может быть фасадом, который скрывает «настоящее Я» (в понимании авторов концепции структурной диссоциации) — а может быть тем, что помогает человеку остаться в реальности, и союзником терапевта в восстановлении (в понимании Джанины Фишер). На мой взгляд, верны обе эти точки зрения: и то, что эта внешне нормальная личность — не весь человек и даже не его сущность, и то, что она помогает выжить.
Внешне нормальная личность — это экзоскелет. Он нужен, чтобы не рассыпаться в невыносимых условиях. Чтобы выдержать.
«Защитные части»: те, кто меня бережет
Это части, которые защищают — должны были защитить — от всего плохого и от связанных с этим невыносимых переживаний. «Бей-беги-замри-понравься» (Fight-Flight-Freeze-Fawn) — адаптивные реакции на стресс, превратившиеся в посттравматические реакции.
Я называю эти части «защитными», потому что каждая из них служит пострадавшим частям для защиты и помощи — как если бы у каждого внутреннего сироты было четыре животных-фамильяра.
Эти реакции одинаковы у всех млекопитающих в ситуации сильного стресса. По сути, это животные реакции — когда людям невыносимо больно или страшно, они становятся как бы не совсем людьми. Когда живое существо спасает свою собственную жизнь, ему не до гуманизма.
Бить, бежать, отморозиться, понравиться — что-то из этого должно было помочь в ситуации травмы. Но силы были неравны, и не помогло ничего. В результате защитные части потеряли того, кому они должны были служить и кого должны были защищать — пострадавшую версию — и стали неуправляемыми. Нормальная, необходимая для защиты своих границ агрессия превратилась в бешеную неконтролируемую ярость. Обычное желание убежать, чтобы спастись, если агрессия не сработала — в лихорадочную активность и желание сбежать при малейших признаках беды.
Способность мирно решить вопрос, уступив там, где это возможно — в отчаянные попытки понравиться и уступки, о которых никто не просил, и которые не нужны ни одной стороне. Возможность приглушить чувствительность на то время, пока это нужно для дела — стала привычным внутренним оцепенением.
Описание функций частей-защитников совпадает с описанием типов травмы у Пита Уокера: борьбы, бегства, ступора и уступки. На самом деле один и тот же человек в разные моменты жизни может выдавать каждую из травматических реакций, которые описывает Уокер. Все это есть в каждом из нас. Поэтому здесь больше подходит скорее термин «части», или «эго- состояния», или «режимы», как в схема-терапии, чем «тип травмы». Каждая из травматических реакций — это скорее проявление личности, одна из ее граней, а не постоянная характеристика. Эти реакции могут в нас как будто спать и просыпаться только в ответ на триггер.
Одна и та же «защитная» часть может совмещать несколько функций — например, защиту и нападение, и это будет воплощаться в образе очень опасного и одновременно закованного в мощную броню существа, внутри которого — внутренний сирота.
Основное отличие «защитных» частей от пострадавшей версии — защитные части не проявляют инициативу в контакте. Даже если это часть, которая как будто пытается понравиться и подыгрывает собеседнику — этот контакт ощущается как не совсем настоящий, неискренний, контакт-средство: для того, чтобы со мной не сделали ничего плохого.
Защитные части в посттравматической реальности заняты когда-то очень важным, но в данный момент совершенно бесплодным и бесполезным трудом. Они раз за разом пытаются защитить пострадавшую часть, не зная, что та ситуация уже в прошлом (а у части-агрессора вообще самое слабое чувство реальности) — но защитить ее никак не получается. Я крепко впаян в этот лед, я в нем как муха в янтаре.
Защитные части понимают задачу беречь человека по-своему- захватывая личность целиком и навязывая свой вариант действий. Фактически, судя по результату, это может быть вообще не защита, а создание опасной ситуации — например, когда человек нападает, пытаясь защититься, хотя реальной угрозы не было, но благодаря «защите» она возникает.
Захват сознания защитной частью ощущается как импульс, который захватывает и заставляет действовать определенным образом. Как будто действие или переживание со мной случилось помимо меня и против моей воли.
Выход — выяснить, кого же мы тут защищаем и от чего, и восстановить связи частей друг с другом.
«Вечное Я»: источник связи
И есть еще одна часть — тот, кто всегда на моей стороне. В психотерапии есть огромное множество вариантов концептуализации этой идеи: «истинное Я» Винникота, «мудрый разум» Марши Линехан, «осознанность» в когнитивно-поведенческих подходах, «self» или «самость» в разных направлениях терапии, включая тот же IFS.
Если есть «Пострадавшая версия» и есть «Внешне нормальная личность», то эту часть, наверное, можно назвать «ВЕЧНОЕ Я».
Тот, кто смотрит на вещи со стороны и видит их такими, какие они есть.
Кто всегда на стороне человечности — и не просто не согласен с насилием, а точно знает, что этого вообще не должно было быть: даже если я не могу ничего с этим сделать, даже если этого никто не видит, даже если это происходит повсеместно и всех устраивает, все равно этого не должно быть, потому что так нельзя с людьми.
Кто смотрит на все живое сочувствующими глазами. Кто помнит о том, что в жизни должен быть какой-то важный смысл — больший, чем просто выживание.
Кто видит в последствиях комплексной травмы смысл и возможность выйти.
Кто после многих неудач говорит, что если отдохнуть и попробовать еще раз, то, может быть, получится.
Тот, кто в отношениях держит связь со своей стороны — не как отчаянный и ненасыщаемый голод, а как способность всерьез и надолго любить.
Кто создает новое — тот, через кого воплощаются идеи и образы, приходя в голову как бы сами собой, помимо сознательной воли.
Тот, кто делает выбор.
«Вечное Я» может ощущаться как родительская фигура, потому что родители же были раньше нас, а значит, они были и будут вечно — но это не родитель. Может восприниматься как внутренний взрослый — но это не взрослый. Взрослый — это слаженная внутренняя команда, все части, когда они знают друг о друге, могут связаться друг с другом и согласованно действовать — или по крайней мере мирно сосуществовать.
«Вечное Я» — это та часть нас, которая держит связь. Связь с чем-то бОльшим, чем сам человек, чем его насущные интересы и интересы выживания: справедливостью, человечностью, истиной, любовью, моим делом, миром, в котором я живу — со всем тем, что существует помимо меня и останется после меня. Связь с другими людьми. И связь остальных частей между собой.
То есть это не просто внутренний сочувствующий наблюдатель — а это скорее то в нас, что соединяет нас с тем, что вне нас, и одновременно с другими людьми. Внутренний источник связи.
Иногда, если человек знает и чувствует, что он прав в масштабах вечности, то благодаря этому он может делать совершенно невыгодные для себя-физически-воплощенного вещи. Даже идти на смерть — потому что бессмертную душу невозможно убить. Как в той легенде, которая легла в основу христианства: ему ведь тоже предлагали отказаться от своих слов и выйти из всего этого.
Контакт с «вечным Я» дает абсолютную защищенность, но не благодаря отщепленной уязвимости: «А что вы мне сделаете?». Человек прекрасно знает, что, помимо вечных историй внутри, он существует в физическом теле — он спотыкается, отвечая на вопрос «Что, если вас убьют?», и в какой-то момент может сказать: «Господи, почему ты меня оставил?» Но само по себе знание, что ты стоишь на стороне правды и одновременно на стороне людей, дает очень большую силу: «Радостно мне, я спокоен в смертельном бою: знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось».
И когда политзаключенные, отвечая на вопрос о том, что вас поддерживало во время заключения, говорят: знание, что я прав, связь с семьей и письма, которые мне писали люди — они говорят именно об этом источнике поддержки. И люди, которые пишут: «Мне не помогали люди, но мне помогли книги» (опустим тот факт, что книги пишут люди для людей, и, как правило, о людях) — пишут о том же.
Снаружи контакт с чем-то большим может выглядеть как посттравматический рост — человек прошел через худшее и получил те способности, которых у него не было раньше.
Обрел веру в себя, несмотря ни на что. Спустился в ад и то ли вынес оттуда контакт с вечностью, то ли мощно этот контакт укрепил, так, что всем стало заметно.
«Вечное Я» есть в каждом из нас, но обычно мы не можем иметь с ним контакт в каждый момент времени. Эта часть в начале восстановления после травмы проявляется очень мало, но в какой-то степени присутствует всегда — всегда можно вспомнить какие-то выборы, которые человек делал, исходя из ощущения связи с чем-то большим, чем он сам.
В начале терапии это тот, кто до нее в принципе дошел: рассказывать вот этому терапевту, о котором я почти ничего не знаю, довольно интимные вещи о себе — это вообще-то прыжок веры. Постепенно — благодаря усилиям самого человека по восстановлению связей — «вечное Я» становится все более и более явным.
Пожалуйста, поделитесь этой статьей, если она показалась вам полезной.





